Родился русский поэт и прозаик Яков Петрович Полонский (1819–1898)
Яков Петрович Полонский родился 6 (18) декабря 1819 г. в г. Рязани. Отец поэта, Пётр Григорьевич Полонский, служил в Рязани чиновником в канцелярии генерал-губернатора А. Д. Балашова. В 1819 г. он женился на Наталье Яковлевне Кафтыревой, происходившей из старинного дворянского рода. Яков Петрович Полонский был старшим ребёнком четы Полонских.
Из воспоминаний Я. П. Полонского: «Официально записан родившимся 7 декабря 1819 года, но так как я родился ранее полуночи в вечер николина дня, то и решено было праздновать день моего рождения 6 декабря, а не 7-го, когда мне дали имя и впервые внесли его в приходскую книгу. Крёстная мать моя и родная тётка по матери Вера Яковлевна Кафтырева не раз рассказывала, как она и её сестры в Николин день узнали на балу у генерал-губернатора Балашова о моём рождении, тотчас же покинули бал и в бальных платьях приехали ночью поздравить мать мою».
Яков Полонский учился в Рязанской 1-й мужской гимназии. Именно здесь он увлёкся литературой и начал писать ещё несмелые, подражательные, ученические стихи. В 1837 г. гимназию посетил цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Из воспоминаний Я. П. Полонского: «Директор Семёнов позвал меня и поручил мне написать стихи, так чтобы один куплет можно было проговорить изустно, а другой пропеть на голос «Боже, Царя храни!». Я охотно взялся за это дело и порядочно над этими стихами помучился».
Именно здесь он увлёкся литературой и начал писать ещё несмелые, подражательные, ученические стихи. В 1837 г. гимназию посетил цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Из воспоминаний Я. П. Полонского: «Директор Семёнов позвал меня и поручил мне написать стихи, так чтобы один куплет можно было проговорить изустно, а другой пропеть на голос «Боже, Царя храни!». Я охотно взялся за это дело и порядочно над этими стихами помучился».
Вечером в доме директора гимназии Н. Н. Семёнова Полонского ожидала заслуженная награда за стихи. «И вот, вижу я, выходит ко мне высокий, полный, несколько сутулый, мне совершенно незнакомый господин… Этот господин был Василий Андреевич Жуковский. Он сказал мне, что стихи мои ему очень понравились, что наследник благодарит меня и жалует меня золотыми часами… На другой день отъезда наследника-цесаревича в актовом зале новой гимназии была прочтена какая-то бумага с упоминанием моей фамилии и затем мне был вручён футляр с небольшими золотыми часами, покрытыми эмалированными цветами, по большей части незабудками», — писал Я.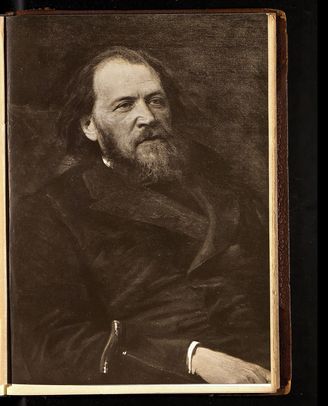 П. Полонский.
П. Полонский.
В 1838 г., после окончания гимназии, Я. П. Полонский поступает на юридический факультет Московского университета. Среди его друзей по университету были выдающиеся современники: поэты А. А. Григорьев, А. А. Фет, историки С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, писатель А. Ф. Писемский и другие. Из наиболее близких людей — отставной генерал, член ранних декабристских организаций М. Ф. Орлов, его жена и их сын Николай, М. П. Погодин, Ю. Ф. Самарин, И. С. Тургенев, дружба с которым продолжалась всю оставшуюся жизнь, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков, Н. М. Языков, М. С. Щепкин.
Несмотря на широкий круг общения и разнообразие интересов, жизнь студента Полонского была сложной — он был беден, приходилось постоянно подрабатывать частными уроками. В 1840 г. в журнале «Отечественные записки» опубликовано стихотворение Я. П. Полонского «Священный благовест торжественно звучит…», о котором с похвалой отзывался профессор словесности Московского университета И. И. Давыдов. Это первое произведение поэта, вышедшее в печати.
В 1844 г. в Москве выходит первая книга Я. П. Полонского «Гаммы», замеченная критикой. В том же году Полонский едет в Одессу, где знакомится с Л. С. Пушкиным (братом А. С. Пушкина), который позднее писал литературному критику П. А. Плетнёву о «таланте Полонского». При поддержке друзей в Одессе в 1846 г. издается сборник «Стихотворения 1845 г.». Я. П. Полонский продолжает заниматься репетиторством в состоятельных семьях. Впечатления одесской жизни позже легли в основу автобиографического романа «Дешёвый город».
Весной 1846 г. Я. П. Полонский переезжает в Тифлис. Здесь он устроился сначала помощником столоначальника, затем — чиновником особых поручений в канцелярии наместника Кавказа Михаила Семёновича Воронцова.Одновременно был помощником редактора официальной газеты «Закавказский вестник». В тифлисской типографии изданы сборники стихотворений Я. П. Полонского «Сазандар» и «Несколько стихотворений».
В 1851 г. Я. П. Полонский приезжает в Петербург. В 1855 г. вышла книга «Стихотворения», благожелательно встреченная критиками.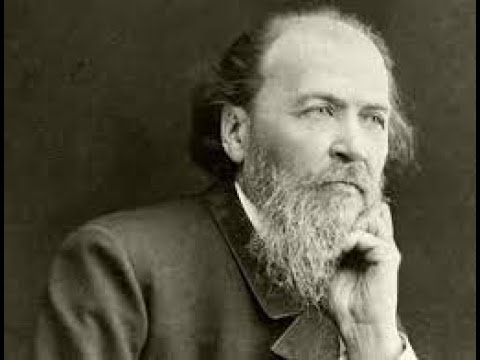 Его произведения начинают печатать в петербургских журналах: «Отечественных записках» и «Современнике». Однако гонорары за литературный труд не могли обеспечить жизнь поэта. Я. П. Полонский становится домашним учителем сына гражданского губернатора Санкт-Петербурга Николая Михайловича Смирнова. В 1857 г. Смирновы, а вместе с ними и Полонский, едут в Баден-Баден. Вскоре он расстается с семьей Смирновых и путешествует по городам Европы: в Женеве берёт уроки рисования у художника Дидэ, посещает Рим, Неаполь, Париж, где общается со многими русскими и зарубежными деятелями культуры. В 1858 г. в Париже Я. П. Полонский знакомится с восемнадцатилетней дочерью псаломщика при русской православной церкви Еленой Васильевной Устюжской, которая вскоре стала его женой. В этом же году молодожёны переезжают в Петербург. Однако счастье поэта было недолгим: в январе 1860 г. умирает его шестимесячный сын Андрей, а спустя полгода заболевает и умирает горячо любимая жена. Незадолго до этого Я. П. Полонский сильно повредил ногу, после чего уже не мог обходиться без костылей.
Его произведения начинают печатать в петербургских журналах: «Отечественных записках» и «Современнике». Однако гонорары за литературный труд не могли обеспечить жизнь поэта. Я. П. Полонский становится домашним учителем сына гражданского губернатора Санкт-Петербурга Николая Михайловича Смирнова. В 1857 г. Смирновы, а вместе с ними и Полонский, едут в Баден-Баден. Вскоре он расстается с семьей Смирновых и путешествует по городам Европы: в Женеве берёт уроки рисования у художника Дидэ, посещает Рим, Неаполь, Париж, где общается со многими русскими и зарубежными деятелями культуры. В 1858 г. в Париже Я. П. Полонский знакомится с восемнадцатилетней дочерью псаломщика при русской православной церкви Еленой Васильевной Устюжской, которая вскоре стала его женой. В этом же году молодожёны переезжают в Петербург. Однако счастье поэта было недолгим: в январе 1860 г. умирает его шестимесячный сын Андрей, а спустя полгода заболевает и умирает горячо любимая жена. Незадолго до этого Я. П. Полонский сильно повредил ногу, после чего уже не мог обходиться без костылей.
Тяжелый 1860 г. ознаменовался для поэта выходом книги стихотворений «Оттиски», благосклонно принятой публикой. В последующие годы Я. П. Полонский продолжает печатать в журналах поэзию и прозу. В Петербурге была издана книга «Кузнечик-музыкант: Шутка в виде поэмы» с иллюстрациями В. А. Гартмана.
В 1866 г. Я. П. Полонский встретился с Жозефиной Антоновной Рюльман, которая вскоре стала его женой. Во втором браке у него родилось трое детей: Александр (1868 г.), Наталья (1870 г.) и Борис (1875 г.).
В 1863 г. Я. П. Полонский был утверждён в должности младшего цензора Комитета иностранной цензуры, где служил до 1896 г., к концу жизни став членом Совета Главного управления по делам печати. Работал он по большей части дома, просматривая французские, английские, итальянские книги и журналы.
В 1860-1870-е гг. Я. П. Полонский публикует в периодических изданиях новые произведения, работает над поэмами «Братья», «Мими», «Келиот», романами «Признания Сергея Чалыгина», «Дешёвый город», «Крутые горки»; издаёт стихотворные сборники. В 1869 г. началось издание собрания сочинений в четырёх томах, в 1895-1896 гг. — пятитомного собрания сочинений.
В 1869 г. началось издание собрания сочинений в четырёх томах, в 1895-1896 гг. — пятитомного собрания сочинений.
В 1872 г. выпущено отдельным изданием либретто Я. П. Полонского по повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» к опере П. И. Чайковского «Кузнец Вакула», которая впервые была исполнена 6 декабря 1876 г. в Мариинском театре Петербурга. После переработки опера была названа «Черевички» и поставлена в Большом театре в 1887 г.
Великий князь Константин Константинович Романов, писавший под псевдонимом К. Р., посвятил Я. П. Полонскому стихотворение «Незабвенных поэтов бессмертную лиру…».
В 1888 г. Я. П. Полонский становится членом Рязанской учёной архивной комиссии. В том же году на академической выставке экспонировались его пейзажные полотна, за которые ему было присуждено звание почётного вольного общника Императорской Академии художеств.
Наряду с произведениями Я. П. Полонского широкую известность получают в Петербурге его «пятницы», которые он проводил в своей квартире на углу улиц Знаменской и Бассейной. Поэту хотелось соединить в своём доме писателей, художников, музыкантов для дружеских бесед по вопросам, касающимся искусства.
Поэту хотелось соединить в своём доме писателей, художников, музыкантов для дружеских бесед по вопросам, касающимся искусства.
18 октября 1898 г. после продолжительной болезни Я. П. Полонский скончался. После отпевания в Петербурге гроб с его телом доставили в Рязань, где на несколько часов он был установлен в церкви Рязанской гимназии, а 25 октября перевезён в Льговский монастырь и предан земле. В 1959 г. прах Я. П. Полонского из Льгова был перенесён в Рязань на территорию Рязанского кремля.
В стихотворении Я. П. Полонского «Письма к Музе», написанном в 1877 г., есть такие строки о родном городе:
…Помнишь, ты меня из классной
Увела и указала
На разлив Оки с вершины
Исторического вала?
Этот вал, кой-где разрытый,
Был твердыней земляною
В оны дни, когда рязанцы
Бились с дикою ордою
Подо мной таились клады,
Надо мной стрижи звенели,
Выше — в небе — над Рязанью
К югу лебеди летели…
(Я.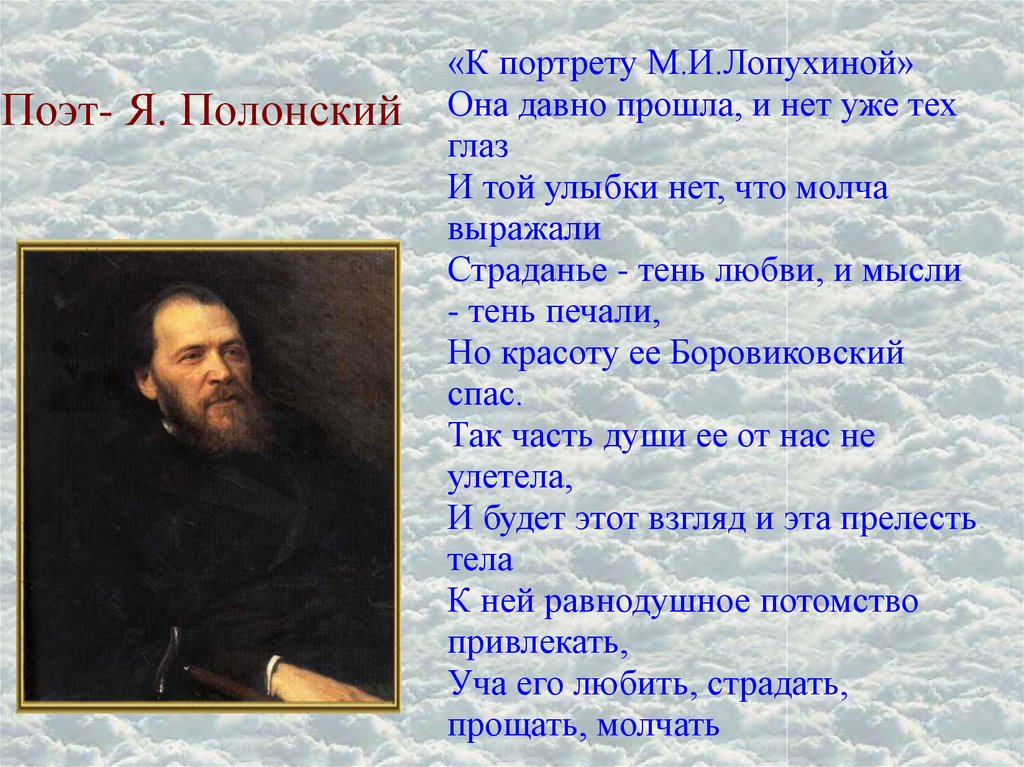 П. Полонский «Письма к Музе. Письмо второе»)
П. Полонский «Письма к Музе. Письмо второе»)
Лит.: Орлов П. А. Я. П. Полонский. Рязань, 1961; Полонский Я. П. Полное собрание сочинений Я. П. Полонского: Т. 1–10. СПб., 1885–1886; Полонский Я. П. Воспоминания. М., 1988 (с. 268–480; Потапов А. Н. Одинокий лебедь: судьба и творчество Якова Полонского. М., 2019; Яков Петрович Полонский: личность и творчество в истории русской культуры / Л. В. Чекурин, Т. В. Федосеева, В. А. Толстов и др.; под ред. Л. В. Чекурина. Рязань, 2014
См. также в Президентской библиотеке:
Русский вестник. СПб., 1892. Т. 220. № 5. Май
Соколов Н. М. Лирика Я. П. Полонского: Крит. этюд. СПб., [1898]
краткая биография, фото и видео, личная жизнь
Полонский Яков Петрович (1819-1898) – русский поэт-романист, публицист. Его произведения не имеют столь масштабного значения, как Некрасова или Пушкина, но без поэзии Полонского русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.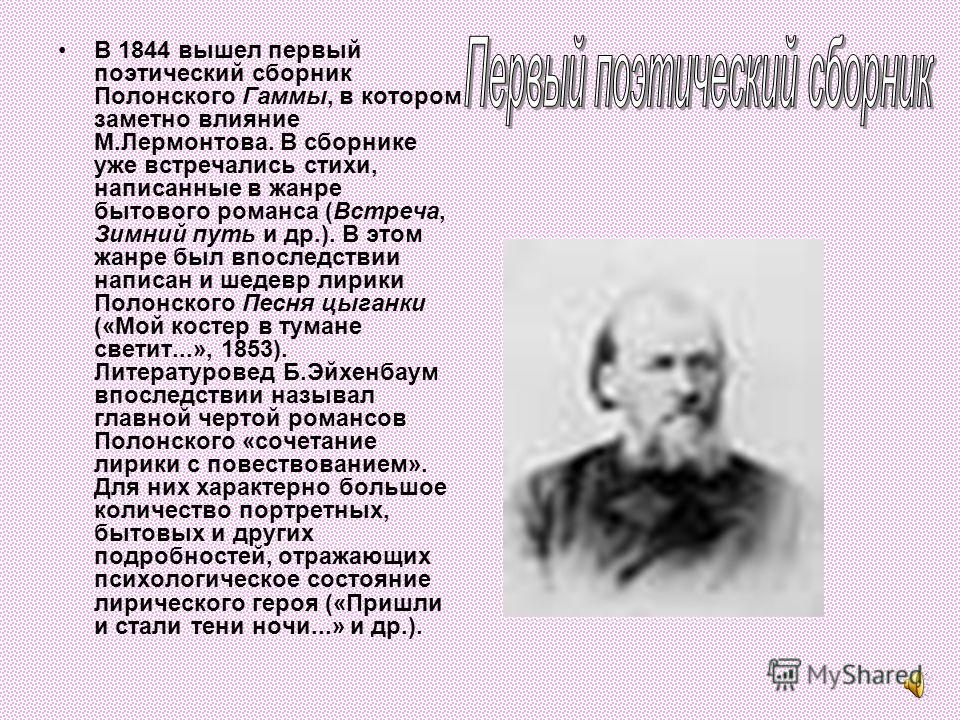
Семья
Яков появился на свет 6 (18) декабря 1819 года в центральной части России – городе Рязани. В большой семье он был первенцем.
Его отец, Полонский Петр Григорьевич, происходил из обедневшего дворянского рода, был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-губернатора.
Мама, Наталья Яковлевна, принадлежала древнему русскому дворянскому роду Кафтыревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетрадки романсы, песни и стихи.
Гимназия
Сначала мальчик получал домашнее образование. Но, когда ему исполнилось тринадцать лет, умерла мама. Отец был назначен на казенную должность в другой город. Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.
Здание 1-ой мужской гимназии в Рязани, где учился Яков Полонский
В то время на пике славы были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. Подросток Полонский зачитывался их стихами и сам понемногу начал сочинять, тем более, что заниматься рифмованием тогда стало модным. Преподаватели отмечали, что юный гимназист обладает явным поэтическим талантом и проявляет в этом отличные способности.
Знакомство с Жуковским
Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути оказала встреча с поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковским Василием Андреевичем.
В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр II, будущего императора принимали в мужской гимназии. Руководитель учебного заведения поручил Якову сочинить два куплета приветственных стихов. Один куплет гимназистский хор исполнял под мелодию «Боже, царя храни!», которая стала гимном России за четыре года до этого.
Прием престолонаследника прошел успешно, и вечером руководитель гимназии устроил по этому поводу торжество. На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.
На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.
Годы учебы в университете
В 1838 году Яков поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического факультета, но по-прежнему писал стихи, принимал участие в университетском альманахе «Подземные ключи». Очень восхищали Полонского лекции декана историко-филологического факультета Тимофея Николаевича Грановского, которые существенно повлияли на формирование мировоззрения студента.
Во времена учебы общительный и привлекательный Яков быстро находил общий язык с сокурсниками. Особенно сблизился с Николаем Орловым, сыном генерал-майора, участника Наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме по вечерам собирались самые известные представители науки, искусства и культуры России.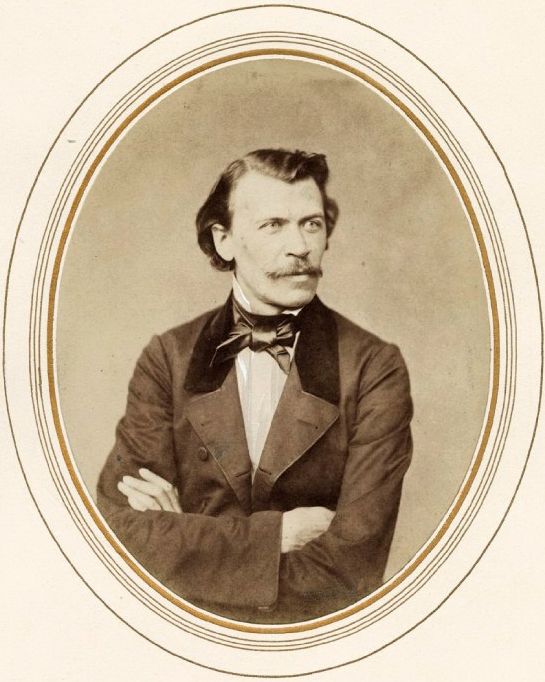 С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.
С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.
Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи напечатали в издании «Отечественные записки». Литературные критики (в том числе и Белинский) высоко оценили первые поэтические работы молодого стихотворца, но прожить лишь за счет сочинительства было невозможно. Студенческие годы Полонского проходили в постоянной нужде и бедности. Ему приходилось подрабатывать, давая частные уроки и занимаясь репетиторством.
Вместо положенных четырех лет Яков учился в университете на год дольше, так как на третьем курсе не смог сдать экзамен по римскому праву декану юридического факультета Никите Ивановичу Крылову.
В период университетской учебы особенно тесные дружественные отношения зародились между Яковом и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.
Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.
Кавказский период
Бедственное положение стало главной причиной того, что по окончании университета осенью 1844 года Яков покинул Москву. Хоть в «Отечественных записках» и вышел первый сборник его стихов «Гамма», денег по-прежнему не было. Полонскому представился шанс устроиться на работу в таможенное ведомство в Одессе, и он этим воспользовался. Там Яков жил у брата известного теоретика анархизма Бакунина и часто бывал в доме наместника Воронцова. Жалования не хватало, снова приходилось давать частные уроки.
Весной 1846 года ему предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа Воронцова, и Яков уехал в Тифлис. Здесь он состоял на службе до 1851 года. Полученные на Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с обычаями и традициями горцев навеяли поэту его лучшие стихи, которые и принесли ему всероссийскую известность.
В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник» и выпустил сборники поэзии «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.
Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.
В период проживания на Кавказе Яков увлекся живописью. Способности к этому виду искусства были замечены у него еще во время учебы в рязанской гимназии. Но именно кавказские окрестности и пейзажи вдохновили Полонского, он очень много рисовал и сохранил это увлечение до конца дней.
Европа
В 1851 году поэт переехал в столицу. В Петербурге он расширил круг своих знакомств в литературном сообществе и много трудился над новыми произведениями.
В 1855 году выпустил следующий поэтический сборник, который с большой охотой публиковали самые популярные литературные издания России – «Отечественные записки» и «Современник». Но на полученные гонорары у поэта не получалось вести даже самое скромное существование. Полонский устроился на работу в качестве преподавателя на дому к детям петербургского губернатора Н. М. Смирнова.
Пейзаж Кавказа, нарисованный Яковом Полонским
В 1857 году губернаторское семейство отправилось в Баден-Баден, с ними уехал и Яков. Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).
Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).
В 1858 году Яков отказался от должности учителя губернаторских детей, так как не смог больше ладить с их матерью – вздорной и фанатически религиозной Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Он попытался остаться в Женеве и заняться живописью. Но вскоре познакомился с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, который как раз собрался организовать в Петербурге новый журнал «Русское слово». Граф предложил Якову Петровичу занять должность редактора.
Жизнь и работа в Петербурге
В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург и начал работу в «Русском слове».
В 1860 году поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 года занял в этом же комитете пост младшего цензора, проработал на одном месте до 1896 года.
В 1897 году Якова Петровича назначили членом Совета главного управления по делам печати.
В конце жизни в своем творчестве поэт все чаще обращался к религиозно-мистическим темам (старость, смерть, мимолетное человеческое счастье). В 1890 году вышел его последний сборник стихов «Вечный звон». Наиболее значимым произведением Полонского считается шуточная поэма-сказка «Кузнечик-музыкант».
Личная жизнь
Со своей первой женой Еленой Устюжской (1840 года рождения) поэт познакомился во время путешествия по Европе. Она была дочерью француженки и старосты русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского. Елена совсем не знала русского языка, а Яков – французского, но брак был заключен по большой любви. В 1858 году Полонский привез молодую супругу в Петербург.
Но следующие два года стали самыми тяжелыми в жизни поэта. Он упал и получил серьезную травму, от ее последствий не смог избавиться до конца дней и передвигался только при помощи костылей. Вскоре заболела тифом и скончалась его жена. Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.
Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.
Долгие годы он не мог оправиться от горя, спасало только творчество. В 1866 году Яков женился второй раз на Жозефине Антоновне Рюльман (1844 года рождения). В этом браке родилось трое детей – сыновья Александр (1868) и Борис (1875) и дочь Наталья (1870). Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала участие в художественной жизни Петербурга. В их доме часто проводились вечера творчества, куда приходили известные в России писатели и художники.
Смерть
Умер Яков Петрович 18 (30) октября 1898 года. Его похоронили в селе Льгово Рязанской губернии в Успенском Ольговом монастыре. В 1958 году останки поэта перезахоронили на территории Рязанского кремля.
Биография Якова Полонского | Биографии известных людей
| ФИО: | Полонский Яков Петрович |
| Дата рождения: | 7 (18) декабря 1819 г. |
| Место рождения: | Рязань |
| Знак зодиака: | Стрелец |
| Деятельность: | Поэт, прозаик |
| Дата смерти: | 18 (30) октября 1898 г. (78 лет) |
Содержание:
- Детство и юность
- Краткая биография
- Личная жизнь
- Творческие достижения
Детство и юность
Яков Полонский был первенцем в дворянской семье Петра Григорьевича, чиновника-интенданта, состоявшего на службе у губернатора Рязани. Мать, Наталья Яковлевна, происходившая из древнего рода Кафтыревых, занималась домашним хозяйством и воспитанием 7-ых детей. Она много читала и выписывала в тетради стихи, песни и романсы. Семья несколько раз меняла съемное жилье. Наблюдения за патриархальным укладом жизни хозяев и родственников, прекрасные пейзажи со старинной архитектурой и садами отразились в творчестве поэта.
До 13 лет мальчик был на домашнем обучении, потом умерла мама, а отца перевели в другой город. Петр Григорьевич уехал один, дети остались под заботой родственников матери. Якова устроили в лучшую мужскую гимназию Рязани. Тогда были модными поэты Пушкин и Бенедиктов. Зачитываясь их стихами, многие пытались рифмовать. Не избежал этого влияния и Яков, причем преподаватели отмечали его явные способности к поэзии.
В 1837-м году, готовясь к приезду престолонаследника Александра, директор гимназии Н. Семенов поручил Полонскому написать стихи под мелодию гимна «Боже, Царя храни!». Строки понравились цесаревичу, и он подарил автору золотые часы. Прежде никому неизвестный гимназист получил 1-ю популярность в Рязани, его стали приглашать на обеды важные персоны города.
В молодости
Краткая биография
- 7 (18) декабря 1819 г. – Родился в Рязани.
- 1838 – Поступил в Московский университет на юридический факультет.
 На вступительных экзаменах познакомился со студентом-словесником Аполлоном Григорьевым, который снимал комнатку на Малой Полянке. Там собирались студенты, увлеченные философией, это было одно из мест, где возникала московская литературная «богема». Центром тусовки были 3 крупнейших поэта: Григорьев, Афанасий Фет и Полонский. Последний мучился ощущением своей ущемленности в образованности и положении (не мог обучаться на филологическом факультете из-за «нехватки памяти» на изучение иностранных языков и был беден настолько, что приходилось подрабатывать репетиторством и довольствоваться дешевыми обедами и даже калачами).
На вступительных экзаменах познакомился со студентом-словесником Аполлоном Григорьевым, который снимал комнатку на Малой Полянке. Там собирались студенты, увлеченные философией, это было одно из мест, где возникала московская литературная «богема». Центром тусовки были 3 крупнейших поэта: Григорьев, Афанасий Фет и Полонский. Последний мучился ощущением своей ущемленности в образованности и положении (не мог обучаться на филологическом факультете из-за «нехватки памяти» на изучение иностранных языков и был беден настолько, что приходилось подрабатывать репетиторством и довольствоваться дешевыми обедами и даже калачами). - 1838-1844 – Сближение Полонского с Фетом. Мягкий и неуверенный Яков тянулся к решительному и твердому Афанасию и часто отдавал последнему на суд свои стихотворные опыты. А Фет первым почувствовал уникальный талант приятеля, с нетерпением ожидая новых строк. Оба написали в этот период первые шедевры, включенные в золотую шкатулку русской поэтической классики.
 У Полонского это «Пришли и стали тени ночи…». Тогда же началась дружба с Тургеневым, продолжавшаяся до смерти Ивана Сергеевича.
У Полонского это «Пришли и стали тени ночи…». Тогда же началась дружба с Тургеневым, продолжавшаяся до смерти Ивана Сергеевича. - 1840 – В авторитетном журнале «Отечественные записки» увидело свет 1-е стихотворение «Священный благовест торжественно…».
- 1841 – Печатался в студенческом альманахе, названном «Подземные ключи».
- 1842 – Написал «К демону», в котором проявилась ключевая особенность всего дальнейшего творчества Полонского – осознание личной причастности к вариативному многообразию окружающей жизни.
- 1844 – Вышел 1-й поэтический сборник «Гаммы» при помощи сына известного артиста Щепкина. В этом же году окончил университет. Несмотря на тепло встреченный критикой дебют, этот труд не принес никакой прибыли. Поэтому использовал шанс устроиться на таможенную службу, для чего переехал в Одессу.
- 1845 – Напечатано стихотворение «Вызов», которое (с музыкой А.С. Даргомыжского) попало в популярные песенники.

- 1846 – Появилась известная «Затворница». Положенная на музыку неизвестных композиторов, она сразу приобрела популярность в среде студентов, а потом и ссыльных. Опубликован 2-й сборник «Стихотворения 1845 года».
- 1846-1851 – Получил назначение в канцелярию наместника на Кавказе М. Воронцова в Тифлис. Переехав, параллельно работает помощником редактора «Закавказского вестника». Публиковал свои сочинения: статистику климата, населения и природных богатств, художественные и этнографические очерки и заметки, фельетоны, стихи. Закавказье вдохновило на написание многих стихов, принесших начинающему чиновнику всероссийскую известность. Увлекся живописью, способности к которой проявились еще при обучении в гимназии, и писал картины до конца жизни.
- 1849 – Издан сборник «Сазандар» (Певец) о быте и духе кавказских народов.
- 1852 – Опубликована 1-я драма «Дареджана Имеретинская».
- 1851-1859 – Сотрудничал с «Современником», опубликовал 4-й сборник стихов.
 Но гонораров по-прежнему не хватало даже на скромную жизнь. Поэтому давал частные уроки, в том числе детям столичного губернатора. С губернаторской семьей путешествовал по Европе, учился живописи у французских мастеров, знакомился с писателями. В 1858-м году отказался преподавать детям губернатора, устав ладить с их вздорной матерью.
Но гонораров по-прежнему не хватало даже на скромную жизнь. Поэтому давал частные уроки, в том числе детям столичного губернатора. С губернаторской семьей путешествовал по Европе, учился живописи у французских мастеров, знакомился с писателями. В 1858-м году отказался преподавать детям губернатора, устав ладить с их вздорной матерью. - 1852 – Посвятил приятелю детства Михаилу Кублицкому, на квартире которого жил в Москве после того, как скончалась бабушка, стихотворение «Финский берег». По завещанию этого товарища Якову отошла огромная библиотека и собрание автографов знаменитостей.
- 1859-1860 – Познакомился с меценатом и создателем журнала «Русское слово» Кушелевым-Безбородко. Был редактором этого журнала. Опубликовал сборник «Рассказы».
- 1863 – Опубликовал шуточно-сатиристическую поэму-сказку «Кузнечик-музыкант», которая считается самой лучшей из поэм Полонского. Изящным слогом автор рассказывает о неразделенной любви кузнечика к прелестной бабочке, влюбленной в соловья.
 Очеловечивая своих героев, он воспевает людские добродетели и обличает пороки.
Очеловечивая своих героев, он воспевает людские добродетели и обличает пороки. - 1860-1898 – Работал в Комитете иностранной цензуры и Совете главного управления по делам печати, зарабатывая на жизнь. Издано несколько поэтических сборников поэта, в т.ч. Полные собрания сочинений, рассказы «На высотах спиритизма», романы «Женитьба Атуева», «Дешевый город» и «Проигранная молодость», поэма «Собаки».
- 1890 – Вышел последний сборник стихотворений «Вечный звон».
- 18 (30) октября 1898 г. – Умер. С 1958-го года останки находятся в Рязанском кремле.
Поэт Яков Полонский
Личная жизнь
Ощущение ущербности распространялось и на интимные чувства поэта. Причиной неудач в личной жизни он считал робость, отсутствие явной красоты, сильную бедность и привычку писать стихи.
Во время поездки по Европе Яков познакомился с Еленой Устюжской, дочерью старосты русской церкви. Девушка практически не говорила по-русски, а Яков по-французски, но они полюбили друг друга. В июле 1858-го года пара обвенчалась и вскоре приехала в Петербург, где началась полоса несчастий. Сначала поэт упал и серьезно травмировался. Из-за этого до конца жизни вынужден был передвигаться на костылях. В 1959-м году заболела тифом и скончалась жена, а через несколько месяцев 6-месячный сын Андрей.
В июле 1858-го года пара обвенчалась и вскоре приехала в Петербург, где началась полоса несчастий. Сначала поэт упал и серьезно травмировался. Из-за этого до конца жизни вынужден был передвигаться на костылях. В 1959-м году заболела тифом и скончалась жена, а через несколько месяцев 6-месячный сын Андрей.
С первой женой Еленой Устюжской
Полонский долго переживал утраты, находя утешение в творчестве. Но потом нагрянула новая любовь. В 1866-м году он женился на Жозефине Антоновне Рюльман, сестре известного в городе врача Антона Рюльмана. В браке родилось 3 детей: Александра в 1868-м году, Наталья – в 1870-м и Борис – в 1875-м, Жозефина Антоновна была скульптором-любителем и активно участвовала в столичной творческой жизни. В гостеприимном доме Полонских известные художники и писатели часто собирались на вечера. Петербуржцы и после смерти главы дома какое-то время продолжали традицию устраивать так называемые «Пятницы».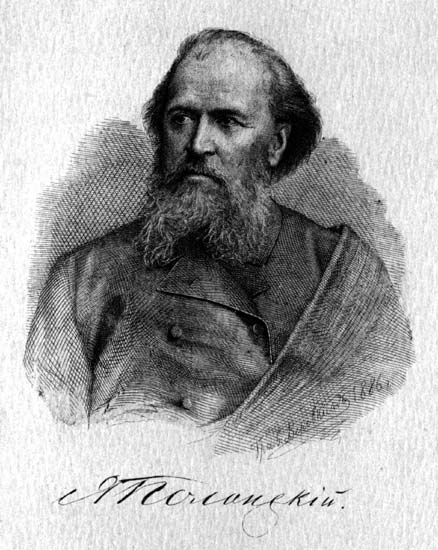
Жозефина Антоновна Рюльман
Творческие достижения
Яков Полонский принадлежал к литературной эпохе, существовавшей между поколением А.С. Пушкина и символистами. Он писал во многих видах литературы: сатиру, поэмы, рассказы, пьесы, очерки, воспоминания, критические статьи. Но уважали его, прежде всего, как лирического поэта. В этом жанре стихотворца считали выдающимся еще при жизни.
Как живописец кистью, он легко и ловко орудовал словами, описывая любовные переживания и чудесные картины среднерусской природы, прекрасной в любое время года. Его стихи прекрасно ложились на музыку Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова и других композиторов. Некоторые стали известными песнями и поются до сих пор. Например, «Песня цыганки» и «Затворница».
Биография и ТОП-7 Интересных Факта
Полонский Яков Петрович (1819–1898) – русский поэт-романист, публицист. Его произведения не имеют столь масштабного значения, как Некрасова или Пушкина, но без поэзии Полонского русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.
В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.
Семья
Яков появился на свет 6 (18) декабря 1819 года в центральной части России – городе Рязани. В большой семье он был первенцем.
Его отец, Полонский Петр Григорьевич, происходил из обедневшего дворянского рода, был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-губернатора.
Мама, Наталья Яковлевна, принадлежала древнему русскому дворянскому роду Кафтыревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетрадки романсы, песни и стихи.
Малая родина
В тишайшей Рязани, в небольшом захолустном городке, в ночь с 6 на 7 декабря 1819 года родился младенец, которого спустя две недели нарекли в крещенье Яковом. Его тетки были на балу у генерал-губернатора, но, узнав, что их сестра благополучно разрешилась в родах, покинули бал, чтобы принести свои поздравления. Род Полонских был древний, выехавший из Польши, чтобы поступить на службу Ивану Грозному. Полонские имели герб, на лазоревом фоне которого были изображены звезда о шести рогах, шлем с павлиньими перьями и месяц молодой. Отец будущего поэта хорошего образования получить не смог, но читать и писать научился, и почерк имел красивый. Он был мелким чиновником, и большая семья требовала непомерных для него расходов. Яков был старшим ребенком, а помимо него было еще шесть детей. В последних родах умерла его мать, Наталья Яковлевна. Ребенок тяжко переживал ее смерть, и ему казалось, что мать похоронили живой. В детстве Яков Полонский часто видел страшные сны. Он пугался. Воображение начинало работать, появлялись поэтические образы. Старший брат рассказывал придуманные им сказки младшим и начинал втайне от всех писать стихи.
Род Полонских был древний, выехавший из Польши, чтобы поступить на службу Ивану Грозному. Полонские имели герб, на лазоревом фоне которого были изображены звезда о шести рогах, шлем с павлиньими перьями и месяц молодой. Отец будущего поэта хорошего образования получить не смог, но читать и писать научился, и почерк имел красивый. Он был мелким чиновником, и большая семья требовала непомерных для него расходов. Яков был старшим ребенком, а помимо него было еще шесть детей. В последних родах умерла его мать, Наталья Яковлевна. Ребенок тяжко переживал ее смерть, и ему казалось, что мать похоронили живой. В детстве Яков Полонский часто видел страшные сны. Он пугался. Воображение начинало работать, появлялись поэтические образы. Старший брат рассказывал придуманные им сказки младшим и начинал втайне от всех писать стихи.
Гимназия
Сначала мальчик получал домашнее образование. Но, когда ему исполнилось тринадцать лет, умерла мама. Отец был назначен на казенную должность в другой город. Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.
Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.
Здание 1-ой мужской гимназии в Рязани, где учился Яков Полонский
В то время на пике славы были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. Подросток Полонский зачитывался их стихами и сам понемногу начал сочинять, тем более, что заниматься рифмованием тогда стало модным. Преподаватели отмечали, что юный гимназист обладает явным поэтическим талантом и проявляет в этом отличные способности.
Детство и юность
Яков Полонский был первенцем в дворянской семье Петра Григорьевича, чиновника-интенданта, состоявшего на службе у губернатора Рязани. Мать, Наталья Яковлевна, происходившая из древнего рода Кафтыревых, занималась домашним хозяйством и воспитанием 7-ых детей. Она много читала и выписывала в тетради стихи, песни и романсы. Семья несколько раз меняла съемное жилье. Наблюдения за патриархальным укладом жизни хозяев и родственников, прекрасные пейзажи со старинной архитектурой и садами отразились в творчестве поэта.
Она много читала и выписывала в тетради стихи, песни и романсы. Семья несколько раз меняла съемное жилье. Наблюдения за патриархальным укладом жизни хозяев и родственников, прекрасные пейзажи со старинной архитектурой и садами отразились в творчестве поэта.
До 13 лет мальчик был на домашнем обучении, потом умерла мама, а отца перевели в другой город. Петр Григорьевич уехал один, дети остались под заботой родственников матери. Якова устроили в лучшую мужскую гимназию Рязани. Тогда были модными поэты Пушкин и Бенедиктов. Зачитываясь их стихами, многие пытались рифмовать. Не избежал этого влияния и Яков, причем преподаватели отмечали его явные способности к поэзии.
В 1837-м году, готовясь к приезду престолонаследника Александра, директор гимназии Н. Семенов поручил Полонскому написать стихи под мелодию гимна «Боже, Царя храни!». Строки понравились цесаревичу, и он подарил автору золотые часы. Прежде никому неизвестный гимназист получил 1-ю популярность в Рязани, его стали приглашать на обеды важные персоны города.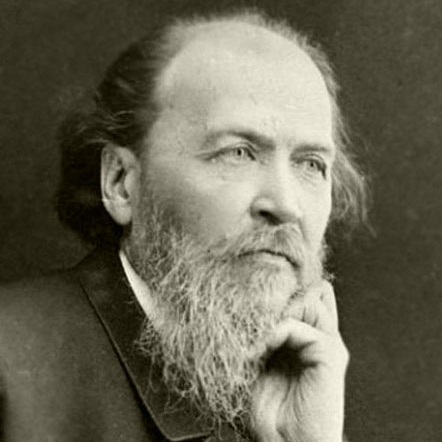
В молодости
Знакомство с Жуковским
Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути оказала встреча с поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковским Василием Андреевичем.
В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр II, будущего императора принимали в мужской гимназии. Руководитель учебного заведения поручил Якову сочинить два куплета приветственных стихов. Один куплет гимназистский хор исполнял под мелодию «Боже, царя храни!», которая стала гимном России за четыре года до этого.
Прием престолонаследника прошел успешно, и вечером руководитель гимназии устроил по этому поводу торжество. На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.
Годы учебы в университете
В 1838 году Яков поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического факультета, но по-прежнему писал стихи, принимал участие в университетском альманахе «Подземные ключи». Очень восхищали Полонского лекции декана историко-филологического факультета Тимофея Николаевича Грановского, которые существенно повлияли на формирование мировоззрения студента.
Во времена учебы общительный и привлекательный Яков быстро находил общий язык с сокурсниками. Особенно сблизился с Николаем Орловым, сыном генерал-майора, участника Наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме по вечерам собирались самые известные представители науки, искусства и культуры России. С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.
Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи напечатали в издании «Отечественные записки». Литературные критики (в том числе и Белинский) высоко оценили первые поэтические работы молодого стихотворца, но прожить лишь за счет сочинительства было невозможно. Студенческие годы Полонского проходили в постоянной нужде и бедности. Ему приходилось подрабатывать, давая частные уроки и занимаясь репетиторством.
Вместо положенных четырех лет Яков учился в университете на год дольше, так как на третьем курсе не смог сдать экзамен по римскому праву декану юридического факультета Никите Ивановичу Крылову.
В период университетской учебы особенно тесные дружественные отношения зародились между Яковом и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.
После гимназии
Яков Полонский окончил рязанскую гимназию в 1838 году. К этому времени отец был совершенно сломлен кончиной любимой супруги и, послужив три года на Кавказе, вернулся в родной город. В дела детей он не вмешивался. Но у Якова произошло событие, которое он сам считал важной вехой своей жизни. В 1837 году Рязань посетил цесаревич Александр Николаевич, сопровождаемый В.А. Жуковским. Юный Яков Полонский представил на суд будущего императора одно из своих творений. Эта встреча связала все помыслы молодого человека с литературной деятельностью. С 1838 по 1844 годы Яков Полонский учится в Московском Университете. Он страшно бедствует, потому что семья окончательно разорена, и можно рассчитывать только на собственные силы. Снимать жилье приходилось в трущобах, зарабатывать на жизнь репетиторством и частными уроками. Случались дни, когда и пообедать было не на что. Приходилось обходиться чаем и калачом.
В дела детей он не вмешивался. Но у Якова произошло событие, которое он сам считал важной вехой своей жизни. В 1837 году Рязань посетил цесаревич Александр Николаевич, сопровождаемый В.А. Жуковским. Юный Яков Полонский представил на суд будущего императора одно из своих творений. Эта встреча связала все помыслы молодого человека с литературной деятельностью. С 1838 по 1844 годы Яков Полонский учится в Московском Университете. Он страшно бедствует, потому что семья окончательно разорена, и можно рассчитывать только на собственные силы. Снимать жилье приходилось в трущобах, зарабатывать на жизнь репетиторством и частными уроками. Случались дни, когда и пообедать было не на что. Приходилось обходиться чаем и калачом.
В этот период он близко знакомится с А. Григорьевым и А. Фетом, оценившими дарование молодого поэта. Окрыленный, он печатает в «Отечественных записках» в 1840 году стихотворение «Священный благовест торжественно звучит». Круг московских знакомых у него расширяется. В доме потомка декабриста, Николая Орлова, Яков Полонский знакомится с профессором Т. Грановским, философом П. Чаадаевым. Там же в 1942 году он на всю жизнь подружится с Иваном Тургеневым, с которым будет поддерживать переписку.
В доме потомка декабриста, Николая Орлова, Яков Полонский знакомится с профессором Т. Грановским, философом П. Чаадаевым. Там же в 1942 году он на всю жизнь подружится с Иваном Тургеневым, с которым будет поддерживать переписку.
Кавказский период
Бедственное положение стало главной причиной того, что по окончании университета осенью 1844 года Яков покинул Москву. Хоть в «Отечественных записках» и вышел первый сборник его стихов «Гамма», денег по-прежнему не было. Полонскому представился шанс устроиться на работу в таможенное ведомство в Одессе, и он этим воспользовался. Там Яков жил у брата известного теоретика анархизма Бакунина и часто бывал в доме наместника Воронцова. Жалования не хватало, снова приходилось давать частные уроки.
Весной 1846 года ему предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа Воронцова, и Яков уехал в Тифлис. Здесь он состоял на службе до 1851 года. Полученные на Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с обычаями и традициями горцев навеяли поэту его лучшие стихи, которые и принесли ему всероссийскую известность.
В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник» и выпустил сборники поэзии «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.
В период проживания на Кавказе Яков увлекся живописью. Способности к этому виду искусства были замечены у него еще во время учебы в рязанской гимназии. Но именно кавказские окрестности и пейзажи вдохновили Полонского, он очень много рисовал и сохранил это увлечение до конца дней.
Биография Якова Полонского
Яков Полонский родился 6 (18) декабря 1819 года в г. Рязани в семье чиновника-интенданта. Мать поэта, Наталья Яковлевна, была образованной женщиной – много читала, записывала в тетради стихи, песни, романсы.
Сначала Полонский получил домашнее образование, а затем его отдали в рязанскую гимназию. В это время Полонский зачитывался произведениями Пушкина и В. Бенедиктова и сам начал писать стихи. Гимназическое начальство поручило Полонскому написать поздравительные стихи по случаю приезда в Рязань наследника престола Александра с поэтом Жуковским. Маститому поэту понравились стихи юного гимназиста, и он подарил ему золотые часы. Это было в 1837 году, а в следующем году Полонский закончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет.
Маститому поэту понравились стихи юного гимназиста, и он подарил ему золотые часы. Это было в 1837 году, а в следующем году Полонский закончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет.
В университете Полонского, как и многих других студентов, восхищали лекции профессора Т.Н. Грановского. Юноша познакомился с Н.М. Орловым, сыном известного генерала, героя Отечественной войны М.Ф. Орлова. В доме Орловых собирались И.С. Тургенев, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Ф.Н. Глинка и др. На этих вечерах Полонский читал свои стихи.
В 1844 г. Полонский окончил университет и вскоре выпустил первый сборник своих стихов – «Гаммы», встреченный благожелательно в журнале «Отечественные записки».
Осенью 1844 г. Полонский переехал в Одессу – служить в таможенном ведомстве. Там он живет у брата известного впоследствии анархиста Бакунина, бывает в доме наместника Воронцова. Жалованья не хватало, и Полонский давал частные уроки. Весной 1846 г. поэт переехал на Кавказ, куда был переведен наместником М.С. Воронцов. Полонский служит в его канцелярии. Вскоре он становится также редактором газеты «Закавказский вестник».
Весной 1846 г. поэт переехал на Кавказ, куда был переведен наместником М.С. Воронцов. Полонский служит в его канцелярии. Вскоре он становится также редактором газеты «Закавказский вестник».
В газете он печатает произведения разных жанров – от публицистических и научных статей до очерков и рассказов.
Кавказские впечатления определили содержание многих его поэтических произведений. В 1849 году Полонский издал сборник «Сазандар» (певец (груз.)). Служба на Кавказе продолжалась 4 года.
В 1857 году Полонский выехал за границу учителем-гувернером в семье губернатора Н.М. Смирнова. Однако поэт вскоре отказался от роли учителя, так как вздорный характер и религиозная фанатичность А.О. Смирновой-Россет претили Полонскому. Он пытается заняться живописью в Женеве (1858), однако вскоре встречается с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, предложившим ему пост редактора в организуемом им журнале «Русское слово». Полонский принял это предложение. До 1860 года поэт редактировал «Русское слово», позднее стал секретарем в Комитете иностранной цензуры, а три года спустя – младшим цензором в том же комитете. В этой должности он находился до 1896 года, после чего был назначен членом Совета главного управления по делам печати.
Полонский принял это предложение. До 1860 года поэт редактировал «Русское слово», позднее стал секретарем в Комитете иностранной цензуры, а три года спустя – младшим цензором в том же комитете. В этой должности он находился до 1896 года, после чего был назначен членом Совета главного управления по делам печати.
Полонский был в хороших отношениях с Некрасовым, И. Тургеневым, П. Чайковским, для которого писал либретто («Кузнец Вакула», позднее – «Черевички»), с А.П. Чеховым – ему он посвятил стихотворение «У двери».
В 1887 году было торжественно отмечено 50-летие творческой деятельности Полонского.
Скончался Я. Полонский 18 (30) октября 1898 года в Петербурге, похоронен в Льговском монастыре. В 1958 году прах поэта перевезен в Рязань (территория Рязанского кремля).
Полонский писал стихотворения, поэмы, газетные сатирические фельетоны, печатал рассказы, повести и романы, выступал как драматург и публицист. Но из обширного творческого наследия его ценность представляют лишь стихотворные произведения, лирика.
Но из обширного творческого наследия его ценность представляют лишь стихотворные произведения, лирика.
СТРАНИЦА АВТОРА
Поделиться
Ключевые слова: Яков Полонский,подробная биография Якова Полонского,критика,скачать биографию,скачать бесплатно,реферат,русская литература 19 века,поэты 19 века
Европа
В 1851 году поэт переехал в столицу. В Петербурге он расширил круг своих знакомств в литературном сообществе и много трудился над новыми произведениями.
В 1855 году выпустил следующий поэтический сборник, который с большой охотой публиковали самые популярные литературные издания России – «Отечественные записки» и «Современник». Но на полученные гонорары у поэта не получалось вести даже самое скромное существование. Полонский устроился на работу в качестве преподавателя на дому к детям петербургского губернатора Н. М. Смирнова.
Пейзаж Кавказа, нарисованный Яковом Полонским
В 1857 году губернаторское семейство отправилось в Баден-Баден, с ними уехал и Яков. Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).
Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).
В 1858 году Яков отказался от должности учителя губернаторских детей, так как не смог больше ладить с их матерью – вздорной и фанатически религиозной Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Он попытался остаться в Женеве и заняться живописью. Но вскоре познакомился с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, который как раз собрался организовать в Петербурге новый журнал «Русское слово». Граф предложил Якову Петровичу занять должность редактора.
Петербург
Итак, биография Якова Полонского рассказывает о его возвращении в Россию, где он тепло принят читателями и литераторами. Но материального благополучия у него нет. В 1857 году он вынужден стать репетиром. В этом качестве он сопровождает семью А.О. Смирновой-Россет, обладающую крайне неустойчивым и трудным характером, в Швейцарию. Но 38 лет — это уже не тот возраст, когда можно терпеть капризы нанимателей. Спустя несколько месяцев он уходит с этой должности и посещает Женеву, Рим, Париж.
Но 38 лет — это уже не тот возраст, когда можно терпеть капризы нанимателей. Спустя несколько месяцев он уходит с этой должности и посещает Женеву, Рим, Париж.
Жизнь и работа в Петербурге
В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург и начал работу в «Русском слове».
В 1860 году поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 года занял в этом же комитете пост младшего цензора, проработал на одном месте до 1896 года.
В 1897 году Якова Петровича назначили членом Совета главного управления по делам печати.
В конце жизни в своем творчестве поэт все чаще обращался к религиозно-мистическим темам (старость, смерть, мимолетное человеческое счастье). В 1890 году вышел его последний сборник стихов «Вечный звон». Наиболее значимым произведением Полонского считается шуточная поэма-сказка «Кузнечик-музыкант».
Второй брак
На литературные гонорары существовать невозможно, и Яков Петрович приступает к работе в комитете иностранной цензуры. Через 6 лет после крушения первого брака он влюбляется в красавицу Жозефину Рюльман.
Через 6 лет после крушения первого брака он влюбляется в красавицу Жозефину Рюльман.
Этот роман заканчивается браком, в котором родится два сына и дочь. У него дома создается литературно-музыкальный салон, в котором по пятницам собирается цвет интеллигенции Петербурга: поэты, прозаики, композиторы, живописцы, критики. Тут бурлит культурная жизнь столицы. На этом краткая биография Якова Полонского в нашем изложении уже подходит к завершению. В честь празднования 50-летия литературной деятельности Полонскому торжественно был вручен серебряный венок, а Великий князь Константин Романов посвятил ему стихотворение.
Личная жизнь
Со своей первой женой Еленой Устюжской (1840 года рождения) поэт познакомился во время путешествия по Европе. Она была дочерью француженки и старосты русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского. Елена совсем не знала русского языка, а Яков – французского, но брак был заключен по большой любви. В 1858 году Полонский привез молодую супругу в Петербург.
Но следующие два года стали самыми тяжелыми в жизни поэта. Он упал и получил серьезную травму, от ее последствий не смог избавиться до конца дней и передвигался только при помощи костылей. Вскоре заболела тифом и скончалась его жена. Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.
Долгие годы он не мог оправиться от горя, спасало только творчество. В 1866 году Яков женился второй раз на Жозефине Антоновне Рюльман (1844 года рождения). В этом браке родилось трое детей – сыновья Александр (1868) и Борис (1875) и дочь Наталья (1870). Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала участие в художественной жизни Петербурга. В их доме часто проводились вечера творчества, куда приходили известные в России писатели и художники.
Яков Полонский — Биография — Русская поэзия
Яков Полонский
Краткая биография
Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет – и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой…
Родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани.
Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Жил бедно, поддерживала его только бабушка – Е. Б. Воронцова. Если появлялись какие-то деньги, тратил их в кондитерской, просматривая за чашкой кофе свежие газеты и журналы, подаваемые хозяином. Из-за постоянной необходимости зарабатывать на жизнь, университет закончил только в 1844 году. Тогда же выпустил сборник стихов «Гаммы», замеченный «Отечественными записками». «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом», – писал критик. Однако, этот некоторый успех никак не повлиял на материальное положение поэта; в ноябре того же года он уехал в Одессу.
С 1846 года Полонский жил в Тифлисе. Служил в канцелярии кавказского наместника М. С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».
С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».
В 1853 году переехал в Петербург.
Жить в столице было нелегко. Полонский давал частные уроки, некоторое время служил гувернером в семье миллионера С. С. Полякова. Женился. Однажды, торопясь по делам, связанным с рождением первенца, упал с дрожек и получил серьезную травму. Несколько операций, перенесенных им, не принесли выздоровления, до конца жизни Полонский пользовался костылями. Еще большим потрясением для поэта стала смерть его жены – дочери псаломщика русской церкви в Париже Елены Устюжской. При сложной материальной жизни, жена была неоценимой помощницей поэту – сама кормила и нянчила ребенка. Впрочем, это ей было знакомо, поскольку выросла она в большой небогатой семье и, будучи старшей, вынянчила поочередно всех своих братьев и сестер. Потеряв жену, Полонский впал в отчаяние. Он пытался связаться с женой при помощи спиритических сеансов, но утешение поэту приносили только стихи. «По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни… Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…»
«По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни… Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…»
Стихи Полонского охотно печатались в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском слове», то есть в журналах самых противоположных направлений, часто идеологически враждебных друг другу. Это лавирование между различными лагерями мешало поэту. Но сам он так объяснял это лавирование (в письме к Чехову): «Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство – и тогда только благоволят, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь…»
В конце пятидесятых Полонский редактировал журнал «Русское слово», затем служил цензором в Комитете иностранной цензуры, входил в совет Главного управления по делам печати. Но главное место в его жизни занимала поэзия. «Что такое – отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».
«Что такое – отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».
«Улеглася метелица. Путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!.. У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле, за цветной занавеской, кровать!.. Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет, я больная бреду и не еду к родным, побранить меня некому – милого нет, лишь старуха ворчит, как приходит сосед, оттого, что мне весело с ним!».
«Как это хорошо! – писал Достоевский. – Какие это мучительные стихи, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, вышивай, что хочешь… Этот самовар, этот ситцевый занавес, – так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».
Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».
В последние годы, будучи уже признанным, Полонский еженедельно устраивал «пятницы», на которых встречались литераторы, артисты, ученые.
«Большая зала с окнами на две улицы, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?) За столом – гости. Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя. Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол. Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил. Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом. Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе…
Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе…
Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом. Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко. Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие.
Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.
Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.
Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты… Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн… На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря в день рождения Полонского бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра. Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг. ..
..
Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами… Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют… Мне подумалось: а ведь это ей написано: «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица…»
«Творчество требует здоровья, – говорил Полонский одному из друзей. – Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди. Сильные нервы – это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого – сильного ли, слабого ли – к ним прикосновения». И писал, вспоминая своего друга Фета: «…Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то, не гаснет для него и в сумерках заката, он видит призраки ночные, что ведут свой шепотливый спор в лесу у перевала, там мириады звезд плывут без покрывала, и те же соловьи рыдают и поют».
Умер 18 (30) октября 1898 года.
Похоронен в Рязани.
Из книги Геннадия Прашкевича «Самые знаменитые поэты России»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокопоставленному чиновнику Чикагского медицинского университета предстоит непростой 2013 год – Chicago Tribune
Почти каждое утро, до 7 утра, доктора Кеннета Полонски высаживают рядом с Лейкфронт-Трейл на южной стороне Чикаго, в нескольких шагах от озера Мичиган.
Он не носит портфеля, не носит костюм и не пьет чашку кофе — стандартные атрибуты его современников-руководителей.
Вместо этого — по крайней мере, зимой — он облачен в высокотехнологичный спортивный костюм, оставляющий лишь небольшой участок кожи вокруг глаз открытым для непогоды. Наряд, размышляет он, должен вызвать подозрения у таксистов.
Наряд, размышляет он, должен вызвать подозрения у таксистов.
«Сейчас 6:30 утра, темно и может быть градусов 10 на улице», — говорит он. «Когда я прошу водителя высадить меня на обочине (дороги), они должны думать: «Что происходит с этим парнем? Здесь что-то смешное».
Двенадцать месяцев в году, через жару, похолодания , дождь, мокрый снег и снег, высокопоставленный чиновник Чикагского медицинского университета почти каждое утро начинает пробегать 5 миль на работу.
Это распорядок, который отражает уроки, извлеченные из десятилетий изучения диабета и лечения пациентов с этим заболеванием, и тот, который он сочетает с соблюдением своей диеты «как ястреб». Ежедневная пробежка также является средством для 62-летнего доктора медицины, способного размышлять о проблемах, которые ждут впереди.
Их много, начиная с масштабной трансформации способов оплаты и предоставления медицинских услуг в рамках реформы системы здравоохранения, проведенной президентом Бараком Обамой в 2010 году.
Полонски также сталкивается с сокращением финансирования исследований, поступающего в Притцкеровскую школу медицины через Национальные институты здравоохранения, и растущим финансовым давлением со стороны программы Medicaid штата Иллинойс, программы медицинского страхования федерального штата, которая обслуживает значительную часть южной части больницы. пациенты.
Все это время крестины и попытки заплатить за новую больницу площадью 1,2 миллиона квадратных футов за 700 миллионов долларов, 10-этажное квадратное модернистское здание, возвышающееся над кампусом, более известным своим вездесущим красным цветом начала 20-го века. — крытые готические здания.
Больница, получившая название Центр заботы и открытий в связи с отсутствием донора, готового заложить 50 миллионов долларов за права на присвоение имени, должна открыться в субботу.
Больница с 240 отдельными палатами, 28 большими операционными и семью современными кабинетами визуализации будет специализироваться на неврологии и лечении рака и желудочно-кишечных заболеваний.
Но даже то, что должно было стать праздничным моментом для Полонского и университета, было омрачено противоречиями.
Приблизительно 50 протестующих вошли в больницу воскресным днем в январе, держа в руках плакаты и используя мегафон, чтобы выразить свое недовольство тем, что в таком дорогостоящем учреждении нет травматологического отделения.
Полиция университета дубинками повалила протестующих на землю. Четверо были арестованы в рукопашной.
Полонски сказал, что система переоценивает свою роль в оказании помощи при травмах, «законный вопрос для обсуждения и обсуждения, который мы снова подробно рассмотрим».
Решение этой проблемы станет серьезной проверкой лидерских качеств Полонского в 2013 году и произойдет на фоне крупнейших потрясений в отрасли здравоохранения за последнее поколение.
«Сейчас мы находимся в очень уязвимой ситуации, в этом нет никаких сомнений», — сказал Полонски о происходящих изменениях в здравоохранении. «Но это одна из причин, по которой я заинтересован в своей работе. Я верю, что могу повлиять на ряд серьезных проблем».
Я верю, что могу повлиять на ряд серьезных проблем».
Многие люди, по его словам, проживают жизнь, задаваясь вопросом, является ли то, что они делают, стоящим или значимым в общей картине вещей.
«Мне очень повезло, что у меня никогда не было такой проблемы, — сказал Полонски.
Мальчик из Южной Африки
Кеннет Сэмюэл Полонски родился в феврале 1951 года и был первым из трех детей хирурга-ортопеда по имени Бернард, которого он назвал «очень целеустремленным человеком», и Ребекки, домохозяйки, в Йоханнесбурге. , Южная Африка.
Он посещал государственную начальную школу, разделенную по расовому признаку при апартеиде, и частную еврейскую дневную среднюю школу.
В детстве он был уверенным в себе учеником и ненасытно любопытным, поглощая книги по истории, особенно те, которые предлагали неприкрашенный взгляд на его родную страну, — сказала его 42-летняя жена Лидия, которая познакомилась с Полонским, когда обоим было около 12 лет.
Преисполненный решимости получить беспристрастное представление о политике расовой сегрегации в Южной Африке, подросток Полонский купил учебники истории университетского уровня, чтобы дополнить свои утвержденные правительством тексты.
«Он был невероятно умен, и у него было очень здоровое неуважение к авторитетам», — сказала Лидия Полонски. «Он был мятежным».
Ее муж возражал. «Меня просто интересовала правда, — сказал он.
По словам Лидии Полонски, в старшей школе его учителей-либералов, выступавших против апартеида, нередко подвергали расследованию или арестовывали за то, что они придерживались взглядов, не совпадающих с взглядами правительства.
«У тебя всегда было ощущение, что за тобой наблюдают. Это было очень неудобно», — сказала она. «Мы всегда знали, что собираемся уйти».
Ее муж мало рассказывает о своем пребывании в Южной Африке. Однако он предполагает, что апартеид породил ряд «невыносимых обстоятельств».
Полонский также был полон решимости сделать карьеру в области медицинских исследований. Таких возможностей было немного в Южной Африке, развивающейся стране, где главным приоритетом в то время было предоставление базовой медицинской помощи преимущественно бедному населению.
Таких возможностей было немного в Южной Африке, развивающейся стране, где главным приоритетом в то время было предоставление базовой медицинской помощи преимущественно бедному населению.
После окончания медицинского факультета Университета Витватерсранда он подавал заявки на должности в десятках медицинских вузов США, но почти в каждом ему отказывали, включая стажировку в двух медицинских вузах, которыми он позже руководил на руководящих должностях. , Университет К. и Вашингтонский университет в Сент-Луисе.
«Я всегда говорю студентам и интернам, что здесь легче стать деканом, чем стажером», — пошутил Полонский.
В конце концов он прошел стажировку в госпитале ветеранов войны Эдварда Хайнса-младшего в Хайнсе, а в январе 1976 года вырвал с места свою жену и 9-месячную дочь, чтобы переехать в небольшую квартиру в Оук-парке с видом на ресторан Kentucky Fried Chicken.
Переход был непростым. Звонки домой их семьям стоили 10 долларов в минуту. Квартира, которую они могли себе позволить, была скудной. Зима была холодной.
Зима была холодной.
«Если честно, мы знали о США из фильмов. Это были великолепные американские кухни, красивые дома. Все казалось лучше», — сказала Лидия Полонски. «Но когда мы приехали, это был такой шок».
После прохождения ординатуры по внутренним болезням в ныне закрытой больнице Майкла Риза на ближней южной стороне Полонский был выбран для стажировки в Университете К. по эндокринологии.
В течение следующих 21 года он неуклонно поднимался по служебной лестнице, став начальником отдела эндокринологии и получив звание профессора. Он является автором или соавтором более 180 опубликованных научных работ, став одним из выдающихся исследователей диабета в мире.
Также во время своего первого пребывания в Университете Калифорнии Полонский познакомился с доктором Грэмом Беллом, коллегой-исследователем диабета, который впоследствии стал его давним партнером и соавтором.
Во время ежедневных пробежек они разрабатывают научные эксперименты и новые способы решения проблем в своих исследованиях.
«Это заставило нас думать так, как мы не думали сами по себе», — сказал Белл, всемирно известный своей работой с диабетом. «Конечно, мы немного болтаем о нашей жизни, но после 3 миль это всегда возвращается к науке. Всегда».
Эти двое вместе со своими семьями настолько сблизились, что Белл подумывал последовать за Полонским в Сент-Луис в 1999 году, когда Вашингтонский университет переманил его из Чикаго, назначив председателем медицинского факультета и главным врачом Барнс-еврейская больница.
Они продолжали сотрудничать в течение 11 лет отсутствия Полонского — до тех пор, пока Белл не порекомендовал его президенту Университета Калифорнии Роберту Циммеру, когда открылась высшая должность в медицинском институте.
После того, как Полонского отобрали на работу из резерва кандидатов, «я никогда всерьез не думал не брать ее», — сказал он.
Это были лучшие времена…
Полонский вступил в должность исполнительного вице-президента по медицинским вопросам во время потрясений в здравоохранении на национальном уровне и в Университете C.
Годом ранее , в 2009 году началось строительство новой больницы — крупнейшего учреждения, когда-либо построенного университетом, — которое обещало принести самые передовые медицинские технологии в Саут-Сайд.
За четыре месяца до этого Обама подписал закон о пересмотре системы здравоохранения, который систематизировал серию сокращений платежей больницам в обмен на предоставление им большего количества потенциальных платных пациентов за счет расширения медицинского страхования до более чем 30 миллионов американцев.
Полонски говорит, что закон выделит как минимум 300 миллионов долларов из бюджета больницы в течение следующего десятилетия, и это не включает потенциальное сокращение расходов на высшее медицинское образование и NIH, от которых школа получила около 185 миллионов долларов в виде грантов в 2012.
Затем, всего через несколько дней после того, как Полонский занял свою новую должность, 15 августа произошел расстрел 18-летнего Дамиана Тернера, ставшего жертвой шальной пули в 3 1/2 кварталах от Университета К. Центр.
Центр.
Вместо того, чтобы доставить туда тяжелораненого Тернера, пожарной службе Чикаго пришлось доставить его в ближайший травмпункт уровня 1, примерно в 10 милях от Северо-Западного мемориального госпиталя. Хотя поездка заняла всего 10 минут, активисты и критики заявили, что Тернер мог бы выжить, если бы в Калифорнийском университете был травматологический центр для взрослых.
Больница U. of C. принимает пациентов с травмами в возрасте до 16 лет и имеет отделение неотложной помощи для взрослых, которое принимает почти 80 000 пациентов в год, хотя оно не оборудовано для лечения пациентов с наиболее серьезными травмами.
Этот вопрос привлек широкое внимание средств массовой информации и вызвал временное возмущение в южной части, возродив аналогичные дебаты, которые время от времени возникали с 1988 года, когда университет закрыл свой травматологический центр для взрослых из-за финансовых ограничений и ограничений по вместимости.
Полонский ожидает, что этот вопрос станет предметом активных дискуссий в ближайшие месяцы и годы.
«Это очень, очень сложная ситуация, которую мы переоцениваем», — сказал он.
Полонский, который называет Нельсона Манделу одним из тех, кем он восхищается, не стесняется затрагивать острые темы.
«Он очень прямолинеен», — сказала Шэрон О’Киф, которую Полонский лично выбрал президентом медицинского центра. «Но он не суровый человек. Он невероятно ориентирован на данные и практичен, и он знает, что не всегда все идет по плану».
За дебатами о лечении травм последовала еще одна проблема.
Джеймс Тайри, бывший владелец Chicago Sun-Times и исполнительный директор Mesirow Financial, скончался в Университете Калифорнии в марте 2011 года, отчасти из-за врачебной ошибки во время обычной процедуры. Тайри, входивший в состав правления больницы, тяжело болел раком желудка.
Полонски назвал Тайри «дорогим коллегой» и сказал, что его смерть «была огорчительной во многих отношениях».
«Для меня было важно, чтобы его наследие общественных работ и благотворительности продолжало жить», — сказал он.
U. of C. позже согласился заплатить 10 миллионов долларов за имущество Тайри, не признавая свою вину. Часть этих денег пошла в Фонд Джеймса Тайри и Программу Джеймса К. Тайри по лечению диабета и инновациям.
Человек «настоящей простоты»
Давние друзья и семья говорят, что Полонского мотивируют не материальные ценности, власть или престиж, а личные достижения и преодоление трудностей. Несмотря на приличную зарплату, он водит 12-летнюю «Тойоту» (экономно) и едет домой на поезде ночью (часто).0003
Он также известен тем, что таскает с собой многоразовые продуктовые сумки, наполненные его спортивной одеждой, вместо портфеля, даже на заседания совета директоров.
«В нем есть настоящая простота, — сказал Белл. «Он не одержим вещами, которые не важны. Он не похож на хирурга, который носит костюмы Brioni или водит модные автомобили. Он не собирается делать заявления».
Несмотря на это, сказал Белл, Полонски без труда приспособится к тем, кто им является.
Он может показаться тихим, но никогда не застенчивым, и является способным, но не динамичным оратором.
«Он считается немногословным человеком», — сказал О’Киф, который также работал на Полонски в Сент-Луисе. «Но когда он вступает в разговор, люди слушают. Отчасти это потому, что он просто невероятный учитель».
Полонский, у которого в кабинете висит табличка с надписью «Покажи мне данные», рассудителен и размерен — «строгий», говорит он, черта, унаследованная от его отца, который часами читал свежую медицинскую литературу, чтобы подготовиться к операциям.
Такая строгость будет необходима, поскольку больничная система Университета Калифорнии взвешивает партнерство или принадлежность к ряду больниц и систем здравоохранения, следуя тенденции, которая утвердилась на национальном уровне и в Чикаго.
— Не думаю, что мы можем быть одни, — сказал Полонский. «Нам понадобится партнерство с другими организациями, и одна форма партнерства не исключает другой».
Независимо от того, насколько сильно изменится система, он считает, что всегда найдется место для крупных исследовательских и учебных больниц, подобных существующим в Университете Калифорнии, до тех пор, пока эти учреждения смогут адаптироваться к более ограниченным в финансовом плане условиям.
«Сейчас наша задача — стать лучше», — сказал он. «Я надеюсь, что когда я покину эту должность, когда бы то ни было, люди смогут сказать: да, больница, отделение биологических наук и Притцкеровская школа медицины живут немного лучше, чем когда он пришел к власти. »
Twitter @peterfrost
Кеннет Полонски
Возраст: 62 года
Живет: возле Миллениум-парка.
Семья: Жена, Лидия Полонская; трое детей, Тэмми, Джонатан и Дэниел; шесть внуков.
Хобби: Опера, книги, кино, бег, исследования.
Последние книги, которые ему понравились: «Рэкетир» Джона Гришэма; Уолтер Айзексон «Стив Джобс».
Последние фильмы, которые ему понравились: «Серебряная подкладка», «Линкольн», «Петля».
Семья иммигрантов: все братья и сестры Кеннета и Лидии иммигрировали в США после них. Позже приехали и родители Кеннета. Его мать живет в Южной Калифорнии.
О беге: «Когда заканчиваешь бегать, появляется определенная невозмутимость. Чего не хватает в дне, так это трех четвертей часа, чтобы просто посидеть, подумать и обдумать, какими должны быть приоритеты. Бег навязывает это в день, и я думаю, что это критический элемент любого успеха, которого я смог добиться в своей карьере».
Бумаги Полонского (Авраама)
Содействующее учреждение: Специальные коллекции библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Название: Документы Авраама Полонски
Создатель: Полонский, Авраам
Идентификационный номер/номер вызова: LSC. 2233
2233
Физическое описание: 10,9Линейные футы (18 коробок, 2 картонные коробки для записей и 1 плоская коробка)
Дата (включительно): 1946-1999, (оптом 1970-е-1990-е)
Дата (оптом): 1970-1990
Аннотация: Авраам Полонский — режиссер, сценарист и писатель. В 1951 году он отказался подтвердить или опровергнуть членство в Коммунистической партии. партия перед комитетом Палаты представителей по антиамериканской деятельности, и в результате он был внесен в черный список индустрией развлечений. Коллекция состоит из материалов сценария, рукописей, книг и небольшого количества вырезок, фотографий, переписки, и другие эфемеры, отражающие деятельность Полонского с XIX в.70-е-1990-е годы.
Физическое местонахождение: Хранится вне офиса. Все запросы на доступ к специальным материалам коллекций должны быть сделаны заранее с помощью кнопки запроса, расположенной
на этой странице.
Все запросы на доступ к специальным материалам коллекций должны быть сделаны заранее с помощью кнопки запроса, расположенной
на этой странице.
Язык материала: Английский .
Ограничения доступа
Открыт для исследования. Все запросы на доступ к специальным материалам коллекций должны быть сделаны заранее с помощью кнопки запроса, расположенной на этой странице.
Ограничения на использование и воспроизведение
Права собственности на объекты принадлежат Специальным коллекциям библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Все остальные права, включая авторские права, сохраняются.
создателями и их наследниками. Исследователь несет ответственность за определение того, кому принадлежат авторские права, и
владельцу авторских прав или его наследнику за разрешением на публикацию в тех случаях, когда авторские права не принадлежат регентам Калифорнийского университета.
Все остальные права, включая авторские права, сохраняются.
создателями и их наследниками. Исследователь несет ответственность за определение того, кому принадлежат авторские права, и
владельцу авторских прав или его наследнику за разрешением на публикацию в тех случаях, когда авторские права не принадлежат регентам Калифорнийского университета.
Предпочтительное цитирование
[Идентификация предмета], Бумаги Авраама Полонского (коллекция 2233). Специальные коллекции библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, исследования Чарльза Э. Янга Библиотека Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Происхождение/Источник приобретения
Дар Сьюзан Полански Эпштейн и Генри Полански, 2000 г.
Обработка информации
Коллекции обрабатываются на различных уровнях в зависимости от работы, необходимой для того, чтобы сделать их пригодными для использования, их восприятия пользователем интерес и исследовательская ценность, наличие персонала и ресурсов, а также конкурирующие приоритеты. Библиотека специальных коллекций предоставляет стандартный уровень сохранности и доступа ко всем коллекциям и, когда позволяют время и ресурсы, проводит более интенсивные обработка. Эти материалы были организованы и описаны в соответствии с национальными и местными стандартами и передовой практикой.
Мы стремимся предоставлять этичное, всеобъемлющее и антирасистское описание материалов, которые мы храним, и исправлять
существующее описание наших материалов, содержащее язык, который может быть оскорбительным или причинить вред. Мы приглашаем вас подать
отзыв о том, как описываются наши коллекции, и как их можно было бы описать точнее, заполнив форму
находится на нашем сайте:
Сообщайте о потенциально оскорбительном описании в специальных коллекциях библиотеки.
Мы приглашаем вас подать
отзыв о том, как описываются наши коллекции, и как их можно было бы описать точнее, заполнив форму
находится на нашем сайте:
Сообщайте о потенциально оскорбительном описании в специальных коллекциях библиотеки.
Идентификатор записи каталога UCLA
Идентификатор записи каталога UCLA: 9968403613606533
биография
Авраам Линкольн Полонский родился 5 декабря 1910 года. Окончил Городской колледж Нью-Йорка и Колумбийский университет
Юридический факультет, и какое-то время он преподавал английский язык в Городском колледже. Перед тем, как начать карьеру в кино, Полонский написал
романы и несколько рассказов. В 1940-х он также писал для радио и работал с Columbia Workshop и Orson.
Уэллс. Во время Второй мировой войны Полонский был назначен в Управление стратегических исследований, предшественницу Центральной разведки.
Агентство.
Перед тем, как начать карьеру в кино, Полонский написал
романы и несколько рассказов. В 1940-х он также писал для радио и работал с Columbia Workshop и Orson.
Уэллс. Во время Второй мировой войны Полонский был назначен в Управление стратегических исследований, предшественницу Центральной разведки.
Агентство.
Он переехал на Западное побережье в середине 1940-х годов. Первые два сценария Полонского были написаны. Золотые серьги и Тело и душа , были выпущены в 1947 году и были номинированы на премию Оскар за Тело и душа . Вскоре после этого Полонский снял свой первый фильм. Сила зла (1948). В конце 1940-х он также стал редактором журнала, Ежеквартальный голливудский журнал .
В начале 1950-х Полонский отказался давать показания о своей принадлежности к коммунистической партии или называть членов партии перед Палатой представителей. Комитет по антиамериканской деятельности, впоследствии был уволен компанией Twentieth Century Fox и занесен в черный список. Только с несколькими фильмами На его счету титулы, имя Полонского больше не фигурировало ни в одном фильме в течение почти двух десятилетий. Не было до 1969 что он снял свой второй фильм, Скажи им, что мальчик Вилли здесь.
Полонский вернулся в Нью-Йорк и, используя псевдонимы, писал для телешоу, таких как Ты там и серия Опасность . В 1950-е годы он написал роман, Сезон страха и соавтор фильма 1959 года. Odds Against Tomorrow , который был приписан Джону О. Килленсу. Спустя годы, как лидер в борьбе за восстановление кредитов кинематографистам, занесенным в черный список,
Полонский получил признание за этот сценарий в 1996 году от Гильдии писателей Америки.
Odds Against Tomorrow , который был приписан Джону О. Килленсу. Спустя годы, как лидер в борьбе за восстановление кредитов кинематографистам, занесенным в черный список,
Полонский получил признание за этот сценарий в 1996 году от Гильдии писателей Америки.
В 1990-х Полонский помог написать документальную драму эпохи Маккарти. Виновен по подозрению и появился по всей стране в программах, посвященных годовщине черного списка. Он также преподавал киноклассы в
Университет Южной Калифорнии и штат Калифорния в Нортридже. В ознаменование его работы в кино Лос-Анджелесский фильм
Ассоциация критиков выбрала Полонского одним из лауреатов премии за карьерные достижения группы в 1998 году. Полонский умер 29 октября.
1999 год, Беверли-Хиллз, Калифорния.
Объем и содержание
Сборник состоит из материалов, связанных с творческой деятельностью Авраама Полонского. Включает в себя материалы сценария, рукописи, книги,
и небольшое количество вырезок, публикаций, фотографий, корреспонденции, аудио- и видеозаписей и другой эфемеры, отражающей
Деятельность Полонского около 1970-е-1990-е годы. Материал сценария включает в себя сочинения для Тело страха , Конец детства , Холодная война и Сила Зла , среди прочих. В вырезках и публикациях есть статьи о Полонском, его творчестве или «Черном списке». Книги
смесь публикаций, подаренных и/или собранных Полонским.
Организация и расположение
В алфавитном порядке по названиям файлов и публикаций.
Связанный материал
Документы Авраама Полонского. Висконсинский центр исследований кино и театра.
Темы и условия индексирования
Продюсеры и режиссеры кино — США — Архивы.
Сценаристы — США — Архивы.
Полонский, Авраам — Архив
Если английский является вашим родным языком и вы можете перевести мои старые итальянские тексты, свяжитесь со мной. Прокрутите вниз, чтобы увидеть последние обзоры на английском языке. | Figlio di emigrati russi ebrei, da giovane abbraccio’ la causa marxista.
Dopo aver lavorato per riviste e alla radio, scrisse le sceneggiature di tre film anti-capitalisti: Тело и душа Ди Россен, Сила зла e Я не могу купить это для вас оптом . Force Of Evil (1948), экранизация романа Айры Вулферт «Люди Такера», это гангстерский фильм, действие которого происходит в городском аду, где бродят свирепые монстры. Зло не персонифицировано: гангстеры — всего лишь призраки, которых никогда не показывают. Зло — это безбожный мир финансового квартала. Главный герой живет в подвешенном состоянии между преступлением и честностью: он преступник когда он преследует «американскую мечту», он честен, когда убивает. Атмосфера кошмара, страха, одиночества, тоски, паранойи искажает клише. жанров нуар и гангстер. Во вступительном закадровом голосе главный герой, адвокат Джо (Джон Гарфилд), утверждает, что собирается заработать миллион долларов, хотя и нелегально. Он оказывается адвокатом могущественного мафиози Бена.
У Бена есть план исправить исход гонок, чтобы наиболее часто играемые
номера вылезут и разорят все «банки» (номера ракеток), оставив
Бен монополист бизнеса. Проект является детищем самого Джо,
кто увел Бена от старых насильственных методов. Но Джо только что понял
что одним из разоренных людей будет его больной брат средних лет Лео,
кто управляет одним из таких «банков». Бен специально запрещает Джо говорить своему брату,
чтобы вся схема не рухнула. Лео, честный человек, не любит теневого Джо.
карьеру и отказывается слушать предложение Лео.
Два брата спорят о том, как зарабатывать на жизнь, а затем Лео выгоняет Джо.
Лео бросил учебу, чтобы отправить Джо в школу, чтобы Джо мог стать
адвокатом, которым хотел быть Лео, и теперь Лео стыдится того, что есть у его брата
сделано с этой степенью.
Позже секретарь Лео Дорис, к которой Лео всегда относился как к дочери, уходит в отставку.
Чтобы доказать Лео свою силу, Джо сдает его полиции, которая совершает налет на
«банк» и арестовать всех, включая уходящую Дорис. Он оказывается адвокатом могущественного мафиози Бена.
У Бена есть план исправить исход гонок, чтобы наиболее часто играемые
номера вылезут и разорят все «банки» (номера ракеток), оставив
Бен монополист бизнеса. Проект является детищем самого Джо,
кто увел Бена от старых насильственных методов. Но Джо только что понял
что одним из разоренных людей будет его больной брат средних лет Лео,
кто управляет одним из таких «банков». Бен специально запрещает Джо говорить своему брату,
чтобы вся схема не рухнула. Лео, честный человек, не любит теневого Джо.
карьеру и отказывается слушать предложение Лео.
Два брата спорят о том, как зарабатывать на жизнь, а затем Лео выгоняет Джо.
Лео бросил учебу, чтобы отправить Джо в школу, чтобы Джо мог стать
адвокатом, которым хотел быть Лео, и теперь Лео стыдится того, что есть у его брата
сделано с этой степенью.
Позже секретарь Лео Дорис, к которой Лео всегда относился как к дочери, уходит в отставку.
Чтобы доказать Лео свою силу, Джо сдает его полиции, которая совершает налет на
«банк» и арестовать всех, включая уходящую Дорис. Затем Джо вносит залог за всех. Лео не впечатлен, но событие
убедил его закрыть свой «банк» и сменить бизнес. Он спрашивает только
одна услуга Джо: он помогает Дорис найти хорошую работу. Джо отвозит Дорис домой
и влюбляется. На следующий день выпадает счастливое число, Джо становится
богат и… Лео разорен. Лео должен принять условия Бена и Джо и стать
часть их более крупной организации. Когда честный бухгалтер пытается уйти,
гангстеры Джо вынуждены остаться. В отместку он вызывает полицию
и предлагает стать их доносчиком, чтобы они облазили все «банки» все
время и в конечном итоге отправить их из бизнеса.
Тем временем жена Бена Эдна пытается соблазнить Джо, но он бросает ее.
из своего кабинета. Она говорит ему, что его телефон прослушивается полицией.
и Джо беспокоится о том, что они могли подслушать.
Есть еще один рейд, и есть суд. Джо освобождает всех,
но он чувствует, что ситуация становится отчаянной, и решает купить
Доля Лео в бизнесе, чтобы Лео мог уйти, пока не стало слишком поздно. Затем Джо вносит залог за всех. Лео не впечатлен, но событие
убедил его закрыть свой «банк» и сменить бизнес. Он спрашивает только
одна услуга Джо: он помогает Дорис найти хорошую работу. Джо отвозит Дорис домой
и влюбляется. На следующий день выпадает счастливое число, Джо становится
богат и… Лео разорен. Лео должен принять условия Бена и Джо и стать
часть их более крупной организации. Когда честный бухгалтер пытается уйти,
гангстеры Джо вынуждены остаться. В отместку он вызывает полицию
и предлагает стать их доносчиком, чтобы они облазили все «банки» все
время и в конечном итоге отправить их из бизнеса.
Тем временем жена Бена Эдна пытается соблазнить Джо, но он бросает ее.
из своего кабинета. Она говорит ему, что его телефон прослушивается полицией.
и Джо беспокоится о том, что они могли подслушать.
Есть еще один рейд, и есть суд. Джо освобождает всех,
но он чувствует, что ситуация становится отчаянной, и решает купить
Доля Лео в бизнесе, чтобы Лео мог уйти, пока не стало слишком поздно. И Бен говорит Джо, что старый партнер Бена Фикко хочет бросить им вызов.
организация. Испуганный бухгалтер соглашается устроить встречу между
Лео и Фикко: люди Фикко похищают Лео (у которого сердечный приступ)
и убить бухгалтера.
Джо забирает все деньги, которые у него есть, напивается и пытается убедить Дорис
уйти с ним. Но тут он узнает о похищении брата и бежит
к Бену. Бен и Фикко только что заключили сделку. Джо требует своего брата. Фикко рассказывает
ему, что Лео мертв. Джо убивает их обоих, затем вызывает полицию. Джо и Дорис
уйти вместе. Schiacciato dal «maccartismo», tacque per vent’anni. Torno ‘con la sceneggiatura
ди Madigan (1968), по Зигелю, e poi con Скажи им, что мальчик Вилли здесь (1969), западный атипико dall’assunto
Civile, dove il ragazo indiano e’ predestinato come un gangster dei film noir e gli abitanti della frontiera si
comportano пришел я borghesi дель maccartismo, che vedevano complotti контроль ла nazione ovunque. Вилли Кид — цветной мальчик, индийский ковбой из Калифорнии. И Бен говорит Джо, что старый партнер Бена Фикко хочет бросить им вызов.
организация. Испуганный бухгалтер соглашается устроить встречу между
Лео и Фикко: люди Фикко похищают Лео (у которого сердечный приступ)
и убить бухгалтера.
Джо забирает все деньги, которые у него есть, напивается и пытается убедить Дорис
уйти с ним. Но тут он узнает о похищении брата и бежит
к Бену. Бен и Фикко только что заключили сделку. Джо требует своего брата. Фикко рассказывает
ему, что Лео мертв. Джо убивает их обоих, затем вызывает полицию. Джо и Дорис
уйти вместе. Schiacciato dal «maccartismo», tacque per vent’anni. Torno ‘con la sceneggiatura
ди Madigan (1968), по Зигелю, e poi con Скажи им, что мальчик Вилли здесь (1969), западный атипико dall’assunto
Civile, dove il ragazo indiano e’ predestinato come un gangster dei film noir e gli abitanti della frontiera si
comportano пришел я borghesi дель maccartismo, che vedevano complotti контроль ла nazione ovunque. Вилли Кид — цветной мальчик, индийский ковбой из Калифорнии. Ама
una ragazza che padre e fratelli fanno di tutto per tenere lontana da lui. Redford e’ lo sceriffo, invaghito
della bella ma frigida Agente della Riserva indiana, dotta e sprezzante antropologa. Вилли Кид и ип
indiano evoluto, che pero’ i bianchi si ostinano a рассмотрит ип essere inferiore. Агент и соло
кажущийся непокорным; in realta ‘Riceve tutte le notti lo sceriffo Redford. Ама
una ragazza che padre e fratelli fanno di tutto per tenere lontana da lui. Redford e’ lo sceriffo, invaghito
della bella ma frigida Agente della Riserva indiana, dotta e sprezzante antropologa. Вилли Кид и ип
indiano evoluto, che pero’ i bianchi si ostinano a рассмотрит ип essere inferiore. Агент и соло
кажущийся непокорным; in realta ‘Riceve tutte le notti lo sceriffo Redford. Mezzanotte Willie e la sua ragazza si incontrano di nascosto e fanno l’amore., ма иль vecchio ли sorprende е l’indiano, за difendersi, ло ammazza е scappa кон ла ragazza. Ло Шерифо, istigato dalla superba amante, che vuole fare della ragazza una maestra, raccoglie un gruppo di volontari e ло интриги. Gli inseguitori sono tanti e sono a cavallo, gli inseguiti sono due e a piedi; ле астюзи dell’indiano mettono pero’ fuori strada il Grosso Dei Bianchi, ma lo sceriffo non ci casca. Ad un certo punto lo sceriffo li molla e Willie ha buon gioco ad appiedarli tutti con sei colpi ben centrati. Nel frattempo, nella vicina cittadina di Riverside, si prepara la parata in onore дель президента: гвардия дель корпо сара’ proprio lo sceriffo, mentre la dottoressa si atteggia a gran dam Anella speranza di parlare col Presidente (ma la notte basta che lui si Presenti in camera sua per farle венире оргазма).  Mentre la manifestazione procede, arriva la notizia che Willie ha appiedato gli инсегитори. Si diffonde иль паника; си parla ди Centinaia ди indiani суль piede ди Герра. Партоно спедициони armate da tutte le citta’ dei dintorni; я giornalisti disertano иль президент и accorrono сул luogo. Quando lo sceriffo gli arriva addosso, trova il cadavere della ragazza, vestita tutta di bianco: suicida o uccisa? Lo sceriffo giura di uccidere Вилли Кид. e’ diventata una partita a due: lo sceriffo a cavallo insegue Willie a piedi nel Deserto. Lo raggiunge; duello fra le rocce, lo fronteggia; Вилли fa per sparare e lo sceriffo allora lo ammazza: ma il fucile di willie era scarico, si e’ praticamente самоубийство. Lo sceriffo себе ло carica в spalla е ло consegna алла суа дама. Gli indiani bruciano il труп. Romance Of A Horse Thief (1971) narra l’alleanza fra ladri e prostitute contro i cosacchi per rubare loro cavalli; комедия анархической морали. |
Устное историческое интервью с Артуром Полонским, 12 апреля 1972 г.
 — 21 мая | Архив американского искусства, Смитсоновский институт
— 21 мая | Архив американского искусства, Смитсоновский институтСтенограмма
Интервью
РБ: РОБЕРТ БРАУН
AP: АРТУР ПОЛОНСКИЙ
RB: Сначала я хотел бы, чтобы вы сказали, что хотите, о вашем воспитании, семье, детстве.
AP: Я начал работать в Линне, штат Массачусетс, в 1925 году. Мои родители и одна сестра. То, что я полагал, сейчас можно назвать состоянием хронической бедности. Это было не так мелодраматично. В конце концов, это были хорошие времена. Мой отец был портным, и даже в раннем детстве у него было несколько лет некой легкости и успеха, а также несколько разрушительных спадов во время депрессии. Много времени для чтения, рисования, в этом не было ничего особенного; что-то вроде этого я сделал в то время. Не так много игр или того, что сейчас больше похоже на детство, много групп детей, делающих что-то вместе. Сама местность, изоляция в этой части Линн никоим образом не угнетала. Я, казалось, наслаждался этим. Книги были очень важны. Государственные школы, и всегда этот контакт с каким-нибудь замечательным учителем, который, казалось, был открытием для чего-то таинственного в искусстве или в науке. Я жил в Линне, пока мне не исполнилось тринадцать, а затем переехал в Роксбери, где дела в экономическом и других отношениях шли хуже, чем раньше. Но происходило много нового, особенно литература, местная библиотека, определенные библиотекари, которые делали вещи доступными, и я работал там в библиотеке. Я также учился в Педагогическом колледже иврита. Это был своего рода светский интерес к языку и особенно к истории, что я находил очень красивым и содержательным. Но позже я принял решение взять стипендию, которая была доступна для художественной школы, Бостонской музейной школы, школы Музея изящных искусств, и прекратил все это изучение иврита.
Сама местность, изоляция в этой части Линн никоим образом не угнетала. Я, казалось, наслаждался этим. Книги были очень важны. Государственные школы, и всегда этот контакт с каким-нибудь замечательным учителем, который, казалось, был открытием для чего-то таинственного в искусстве или в науке. Я жил в Линне, пока мне не исполнилось тринадцать, а затем переехал в Роксбери, где дела в экономическом и других отношениях шли хуже, чем раньше. Но происходило много нового, особенно литература, местная библиотека, определенные библиотекари, которые делали вещи доступными, и я работал там в библиотеке. Я также учился в Педагогическом колледже иврита. Это был своего рода светский интерес к языку и особенно к истории, что я находил очень красивым и содержательным. Но позже я принял решение взять стипендию, которая была доступна для художественной школы, Бостонской музейной школы, школы Музея изящных искусств, и прекратил все это изучение иврита.
RB: Ваша семья была достаточно религиозной? Они поощряли вас изучать иврит?
AP: Я думаю, что моя мать была и остается интуитивно религиозной. То есть в ней есть смысл, безусловно, в ритуале и теплоте идеи, и она всегда делала для этого все, что могла, и это было частично. Отец остался в стороне. Так что это была идея моей матери отправить меня в еврейскую школу, и я всегда чувствовал, что в этом есть какое-то разделение, своего рода нелояльность к моему отцу. Я знаю, что он был не против этого на самом деле. Он чувствовал себя в каком-то смысле некомпетентным. Это было не совсем так. Он знал и язык, и иврит, и ритуал, но, похоже, никогда этим не пользовался. Я имею в виду, я думаю, что в нем было благочестие или какое-то поклонение, которое не принимало этих общепринятых форм, на самом деле, что мне сейчас очень понятно.
То есть в ней есть смысл, безусловно, в ритуале и теплоте идеи, и она всегда делала для этого все, что могла, и это было частично. Отец остался в стороне. Так что это была идея моей матери отправить меня в еврейскую школу, и я всегда чувствовал, что в этом есть какое-то разделение, своего рода нелояльность к моему отцу. Я знаю, что он был не против этого на самом деле. Он чувствовал себя в каком-то смысле некомпетентным. Это было не совсем так. Он знал и язык, и иврит, и ритуал, но, похоже, никогда этим не пользовался. Я имею в виду, я думаю, что в нем было благочестие или какое-то поклонение, которое не принимало этих общепринятых форм, на самом деле, что мне сейчас очень понятно.
RB: Какой была школа в Роксбери? Не могли бы вы описать свою среднюю школу там?
Точка доступа: Да. Она называлась Мемориальной средней школой для мальчиков Роксбери и примыкала к средней школе для девочек, но мы не преодолели барьер. У меня был пропуск, который я прошел, потому что я должен был сделать портрет главной актрисы в школьном спектакле, но я очень нервничал, и я не признавался многим своим одноклассникам, что я смог пройти там. Такое разделение было. Там это казалось нормальным и самым традиционным. Сама школа, это было как раз перед войной, именно во время школьной сессии мы услышали, как Рузвельт объявил о вступлении страны в войну с Японией. Конечно же, это транслировалось в сборе. Сама школа, я полагаю, даже тогда считалась бы довольно низкокачественной академической. Это не всегда было правдой, потому что снова здесь и там были учителя, которые были вдохновлены и иногда очень информативны. Но это был редкий вид контакта с этой частью образования. В остальном это было довольно соревновательно, грубо. Я не знаю. Полагаю, я изолировал себя с несколькими друзьями, которые были более совместимы, то есть с которыми я чувствовал себя более комфортно. Я также ассоциировался со всеми элементами школы в том, что я делал карикатуры или портреты, и это было ключом к более широкому обществу, которое меня окружало. Во время учений по затемнению мы договаривались, чтобы я позже сделал несколько набросков. Я делал много портретов, иногда вполне серьезно.
Такое разделение было. Там это казалось нормальным и самым традиционным. Сама школа, это было как раз перед войной, именно во время школьной сессии мы услышали, как Рузвельт объявил о вступлении страны в войну с Японией. Конечно же, это транслировалось в сборе. Сама школа, я полагаю, даже тогда считалась бы довольно низкокачественной академической. Это не всегда было правдой, потому что снова здесь и там были учителя, которые были вдохновлены и иногда очень информативны. Но это был редкий вид контакта с этой частью образования. В остальном это было довольно соревновательно, грубо. Я не знаю. Полагаю, я изолировал себя с несколькими друзьями, которые были более совместимы, то есть с которыми я чувствовал себя более комфортно. Я также ассоциировался со всеми элементами школы в том, что я делал карикатуры или портреты, и это было ключом к более широкому обществу, которое меня окружало. Во время учений по затемнению мы договаривались, чтобы я позже сделал несколько набросков. Я делал много портретов, иногда вполне серьезно. Я начал рисовать портреты летом, после школы. Заработал на этом немного денег, но все же я не чувствовал, что именно это и было целью всех моих усилий, рисование. Хотя я знал, что всегда буду это делать, но портретная живопись имела смысл, очарование, она все еще есть.
Я начал рисовать портреты летом, после школы. Заработал на этом немного денег, но все же я не чувствовал, что именно это и было целью всех моих усилий, рисование. Хотя я знал, что всегда буду это делать, но портретная живопись имела смысл, очарование, она все еще есть.
RB: Вы проходили обучение или еще учились у кого-нибудь?
AP: Нет, не тогда, но в старшей школе была программа в сотрудничестве с городом Бостон, я полагаю, в которой студенты, которые прошли квалификацию, которые фактически выиграли стипендию на конкурсе, выходили два или три дня после обеда. неделю от своих обычных занятий и пойти в музей и провести там специальные занятия. Большинство из нас, кто был там, учились у одной женщины, я думаю, какое-то время, которая сейчас живет на пенсии, по имени Альма Лебрехт, и в разное время у многих художников, которых я знал молодыми людьми моего возраста, и у некоторых из тех, кого я знал как несколько более старых и уже респектабельных художников, таких как Левин — я не уверен в Блуме в данном случае, я так не думаю — но и других, которые сейчас преподают на различных факультетах искусства в окружающих нас университетах. вот, прошёл эти занятия. Это было . . . это не академическое, и вы бы не сказали, что это было введением в искусство, но, возможно, были и другие формы знакомства, но это был способ собраться вокруг общего интереса, который свел нас вместе, и для многих из нас было введением в Школу Музея. Мы видели экспонаты людей в самой школе. Многие из нас хотели попробовать вникнуть в это, и я это сделал. И стремился к этому с тех лет, и прошел этот проект, всегда удивляясь тому, что это произошло, стипендии на протяжении всего пути и так далее. Это было военное время, и все было неуверенно, призыв всегда был грозным, в некоторых случаях он забирал людей, которых мы знали по классу, и они возвращались. Сейчас я в музейной школе. Это было 1943. А в гимназии была военная муштра, стройный оркестр, насколько я помню; замечательный старый учитель английского языка, написавший собственные учебники. Это было достаточно интересно. Но я всегда чувствовал, что это были годы обучения, самопознания. Я просто читал все, что мог найти, теоретизировал и думал, даже углубился в Пруста в те годы из-за той замечательной библиотеки, которая там была.
вот, прошёл эти занятия. Это было . . . это не академическое, и вы бы не сказали, что это было введением в искусство, но, возможно, были и другие формы знакомства, но это был способ собраться вокруг общего интереса, который свел нас вместе, и для многих из нас было введением в Школу Музея. Мы видели экспонаты людей в самой школе. Многие из нас хотели попробовать вникнуть в это, и я это сделал. И стремился к этому с тех лет, и прошел этот проект, всегда удивляясь тому, что это произошло, стипендии на протяжении всего пути и так далее. Это было военное время, и все было неуверенно, призыв всегда был грозным, в некоторых случаях он забирал людей, которых мы знали по классу, и они возвращались. Сейчас я в музейной школе. Это было 1943. А в гимназии была военная муштра, стройный оркестр, насколько я помню; замечательный старый учитель английского языка, написавший собственные учебники. Это было достаточно интересно. Но я всегда чувствовал, что это были годы обучения, самопознания. Я просто читал все, что мог найти, теоретизировал и думал, даже углубился в Пруста в те годы из-за той замечательной библиотеки, которая там была. За стеклянными витринами я мог найти те книги, которые мне были нужны.
За стеклянными витринами я мог найти те книги, которые мне были нужны.
RB: В школе я заметил, что вокруг тебя тоже есть круг друзей. . . ?
Точка доступа: Да.
RB: Многие ли из них сами занимались искусством?
AP: Я полагаю, что теперь я помню тех, кто сделал или сделал что-то еще заметное, потому что я не знал большинство из них после очень долгого времени, и я не знаю, что с ними стало. Но я знаю, что был человек, который тогда, должно быть, был поэтом и стал поэтом-переводчиком, редактором «Парижского обозрения». Я узнал об этом только недавно, на протяжении всей своей карьеры. Но большая часть из них произошла в Европе. Был человек, с которым я посещал эти занятия в Музее, который умер и был в то время очень перспективным молодым художником, как мне казалось. Но я также знал других, кто не учился в моих классах, кто учился в продвинутой школе или учился в других школах, которые жили поблизости, на самом деле в небольшом комплексе улиц вокруг района Гроув-Холл в Роксбери, включая. .. . . . . Я стал встречаться с такими людьми, как Рид Кей, ныне профессор Бостонского университета, где я преподаю. Джек Крамер, братья Свецофф. Позже я познакомился с Дэвидом Аронсоном и Бернаром Шаэ, все в маленьком . . . . Это район, который простирался до Франклин-парка, а затем до района Гроув-холл в Роксбери. Мы слышали. . . . В то время я начал слышать о Джеке Левине, вероятно, от Рида Кея и одного из библиотекарей, которые знали его со времен его работы в Роксбери. Он тоже жил там. В то время он был в Армии. Так что я познакомился с его работами сначала по репродукциям, по немногочисленным экземплярам в Музее, в те времена, а уже потом по экспонатам. Я хотел бы видеть, что он был гораздо более знаменит, получив международную премию Карнеги во время службы в армии. Был школьный учитель (смех), который, я полагаю, был художником, но у меня нет никаких доказательств, чтобы сообщить мне об этом, который в своей довольно юмористической, иногда саркастической манере, казалось, подталкивал нас либо к принятию, либо к отказу, но к его искусству как возможности.
.. . . . . Я стал встречаться с такими людьми, как Рид Кей, ныне профессор Бостонского университета, где я преподаю. Джек Крамер, братья Свецофф. Позже я познакомился с Дэвидом Аронсоном и Бернаром Шаэ, все в маленьком . . . . Это район, который простирался до Франклин-парка, а затем до района Гроув-холл в Роксбери. Мы слышали. . . . В то время я начал слышать о Джеке Левине, вероятно, от Рида Кея и одного из библиотекарей, которые знали его со времен его работы в Роксбери. Он тоже жил там. В то время он был в Армии. Так что я познакомился с его работами сначала по репродукциям, по немногочисленным экземплярам в Музее, в те времена, а уже потом по экспонатам. Я хотел бы видеть, что он был гораздо более знаменит, получив международную премию Карнеги во время службы в армии. Был школьный учитель (смех), который, я полагаю, был художником, но у меня нет никаких доказательств, чтобы сообщить мне об этом, который в своей довольно юмористической, иногда саркастической манере, казалось, подталкивал нас либо к принятию, либо к отказу, но к его искусству как возможности. Может быть, абсурдная возможность, я не знаю. Но он был очень влиятельным, я чувствую, и для многих из нас.
Может быть, абсурдная возможность, я не знаю. Но он был очень влиятельным, я чувствую, и для многих из нас.
РБ: Кто это был?
AP: Его звали Моррис Грейзер. Он преподавал то, что мы тогда проходили как художественный курс, который был почти бесформенным, но в нем было много пиков интереса. Впервые я увидел большую репродукцию Сезанна и хорошую репродукцию акварели Гомера у него в классе. Я, конечно, видел Гомера в Музее изящных искусств, но он был там каждый день и как бы парил над всем остальным, что происходило.
RB: Вы могли, и ваша семья поощряла вас, рисовать в любое свободное время, которое у вас было?
AP: Это всегда было естественно, потому что моя сестра сделала это раньше меня, обычно раньше. Мы брали картон из образцов ткани, которые были у моего отца в ателье. Их всегда спасали, и они становились материалом для рисования. Это звучит довольно красочно, но это был единственный материал для рисования, который у нас был, и мы не ограничивались этим, но они были очень хороши для этой цели. А моя сестра делала портреты исторических личностей, наверное, по фотографиям, а потом переключалась на окружающих ее людей. Я бы сделал то же самое. Я долго работал над рисунком Пастера в детстве, а потом какого-нибудь киноактера. А потом воображаемые работы, но я всегда писал то, что им соответствовало. Это не было похоже на какое-то особенное занятие, но одно из самых приятных. Я начал работать пастелью, наверное, когда мне было девять или десять лет, и цветом. Определенные опыты, которые затем выполнялись с предметами, которые были карикатурными или приключенческими иллюстрациями предмета, взятыми из других, с определенным определенным смыслом, интуитивные переживания, которые остались важными, на самом деле не изменились, даже несмотря на то, что мой предмет изменился. Дизайн был дополнен, надеюсь, некоторой сложностью.
А моя сестра делала портреты исторических личностей, наверное, по фотографиям, а потом переключалась на окружающих ее людей. Я бы сделал то же самое. Я долго работал над рисунком Пастера в детстве, а потом какого-нибудь киноактера. А потом воображаемые работы, но я всегда писал то, что им соответствовало. Это не было похоже на какое-то особенное занятие, но одно из самых приятных. Я начал работать пастелью, наверное, когда мне было девять или десять лет, и цветом. Определенные опыты, которые затем выполнялись с предметами, которые были карикатурными или приключенческими иллюстрациями предмета, взятыми из других, с определенным определенным смыслом, интуитивные переживания, которые остались важными, на самом деле не изменились, даже несмотря на то, что мой предмет изменился. Дизайн был дополнен, надеюсь, некоторой сложностью.
RB: Что, по-твоему, это был опыт?
AP: Интересно, могу ли я сказать. Но они существуют. Но я этого не говорю. Для меня реальность — это какое-то приключение, которое происходит не во времени календарей и часов, а во времени, тем не менее, которое как бы возникает на глазах. Это не то же самое, что жить или видеть, но это своего рода эквивалент с жизненной силой. Это то, что я описываю, является в некотором роде абстракцией и, по-видимому, связано с абстрактным опытом, то есть опытом, полученным из абстрактной игры цвета, которая кажется близкой или далекой, пространственного использования. цвета. Но для меня это все еще больше усиливается и усложняется образом. Это похоже на что-то. Я никогда не разделял их постоянно в работе, хотя иногда я работаю не из наблюдения, а из своего рода формирования образа. Но чувство, когда оно идет хорошо, наверное, можно описать как определенные реакции и намерения по отношению к абстрактному. Но здесь слово становится неадекватным, какой-то чисто изобразительной, визуальной вещью. То, что позже оно становится головой или пейзажем, меня до сих пор удивляет. Хотя я иногда это планирую, и работал условно глядя на объект, и делал портреты, и то, и другое.
Для меня реальность — это какое-то приключение, которое происходит не во времени календарей и часов, а во времени, тем не менее, которое как бы возникает на глазах. Это не то же самое, что жить или видеть, но это своего рода эквивалент с жизненной силой. Это то, что я описываю, является в некотором роде абстракцией и, по-видимому, связано с абстрактным опытом, то есть опытом, полученным из абстрактной игры цвета, которая кажется близкой или далекой, пространственного использования. цвета. Но для меня это все еще больше усиливается и усложняется образом. Это похоже на что-то. Я никогда не разделял их постоянно в работе, хотя иногда я работаю не из наблюдения, а из своего рода формирования образа. Но чувство, когда оно идет хорошо, наверное, можно описать как определенные реакции и намерения по отношению к абстрактному. Но здесь слово становится неадекватным, какой-то чисто изобразительной, визуальной вещью. То, что позже оно становится головой или пейзажем, меня до сих пор удивляет. Хотя я иногда это планирую, и работал условно глядя на объект, и делал портреты, и то, и другое. Этот опыт так хорошо известен художникам и так плохо описан, потому что опять-таки кажется, что слово стоит на пути смысла, который является для каждого совершенно личным. Но это также может быть связь между личными реакциями между людьми. На работе есть своего рода присутствие, как во сне, которое я хотел бы обнаружить в работе. Это может быть фрагмент картины или большая композиция, в которой, несомненно, мы стоим перед этим изображением и смотрим на него целиком. Это цель моей работы. И это не только замысел, который я надеюсь осуществить, интеллектуальный замысел, но опять-таки удивительное открытие, что я обогащаю картину, или что я ею доволен, или просто томлюсь в ней, пока что-нибудь не произойдет, как будто извне, или я заставляю что-то происходить, для того чтобы сделать такое богатство бытия визуально. Я думаю, что мои ученики теперь быстро переходят от своего рода страдания к восторгу, возможно, в течение нескольких минут или секунд, но тихо в классах из-за таких намерений, которые даже не могут быть описаны.
Этот опыт так хорошо известен художникам и так плохо описан, потому что опять-таки кажется, что слово стоит на пути смысла, который является для каждого совершенно личным. Но это также может быть связь между личными реакциями между людьми. На работе есть своего рода присутствие, как во сне, которое я хотел бы обнаружить в работе. Это может быть фрагмент картины или большая композиция, в которой, несомненно, мы стоим перед этим изображением и смотрим на него целиком. Это цель моей работы. И это не только замысел, который я надеюсь осуществить, интеллектуальный замысел, но опять-таки удивительное открытие, что я обогащаю картину, или что я ею доволен, или просто томлюсь в ней, пока что-нибудь не произойдет, как будто извне, или я заставляю что-то происходить, для того чтобы сделать такое богатство бытия визуально. Я думаю, что мои ученики теперь быстро переходят от своего рода страдания к восторгу, возможно, в течение нескольких минут или секунд, но тихо в классах из-за таких намерений, которые даже не могут быть описаны. Их назвали бы поэтическими или выразительными, но мы говорим об анатомии и расстоянии и приемах, перспективе, самой краске, потому что она должна происходить в этом, посредством, этими средствами. Тело духа произведения — это картина, это что-то. Теперь я углубился в многословное изложение всего этого.
Их назвали бы поэтическими или выразительными, но мы говорим об анатомии и расстоянии и приемах, перспективе, самой краске, потому что она должна происходить в этом, посредством, этими средствами. Тело духа произведения — это картина, это что-то. Теперь я углубился в многословное изложение всего этого.
RB: Картина была для вас особенной вещью, предметом, существом в себе?
Точка доступа: Да. И сам акт рисования, и какое-то братство с теми мертвыми и живыми людьми, которые делали такие вещи. . . . Тогда мы не пытались удержаться. . . . Это не было социальной вещью. То есть речь шла не о том, чтобы поставить себя в ряд с другими людьми, ставшими художниками, с художниками, а о каком-то братстве смысла в мире, в каком я, вероятно, легче находил его в чтении и в тогда поэзия. Живопись давалась мне нелегко, потому что я сразу же вступал в простую борьбу желания выйти за пределы того, что на самом деле происходит, как всем кажется, сделать из этого больше, чем оно есть само по себе. Это та амплитуда выражения, на которую я надеялся. В каком-то смысле моя работа теперь разделена между тем, что я называю своей работой, и тем, что я также делаю в портретной живописи. А иногда они собираются вместе. Я думаю, что это началось в значительной степени как портретная живопись. Мои родители не были художниками. Всегда было такое время, когда моя мать лепила котенка из воска, свечного воска; мой отец нарисовал бы что-то подобное. Я не могу найти прямых доказательств такого рода деятельности ни в чем из того, что они делали. Мой отец играл на скрипке самоучкой, как и я, вероятно, с привитыми его ошибками к моим, как я впервые услышал. Однако было кое-что, что он сделал, нарисовав метки белым мелом на черной бумаге, которые позже станут выкройкой костюма, который он только что разработал, что я до сих пор нахожу захватывающим, почти не поддающимся простому описанию, что он нашел, по-видимому, очень простым. и естественно, что он делал описательные проекты, которые однажды станут трехмерными.
Это та амплитуда выражения, на которую я надеялся. В каком-то смысле моя работа теперь разделена между тем, что я называю своей работой, и тем, что я также делаю в портретной живописи. А иногда они собираются вместе. Я думаю, что это началось в значительной степени как портретная живопись. Мои родители не были художниками. Всегда было такое время, когда моя мать лепила котенка из воска, свечного воска; мой отец нарисовал бы что-то подобное. Я не могу найти прямых доказательств такого рода деятельности ни в чем из того, что они делали. Мой отец играл на скрипке самоучкой, как и я, вероятно, с привитыми его ошибками к моим, как я впервые услышал. Однако было кое-что, что он сделал, нарисовав метки белым мелом на черной бумаге, которые позже станут выкройкой костюма, который он только что разработал, что я до сих пор нахожу захватывающим, почти не поддающимся простому описанию, что он нашел, по-видимому, очень простым. и естественно, что он делал описательные проекты, которые однажды станут трехмерными. Когда он говорил, довольно легко и небрежно с другими людьми, мел шел очень быстро и позже становился контуром живого человека, выраженным оболочкой этого контура. Это понятия, превращенные в слова или в разум, которые очень интересны и бесконечно загадочны для скульпторов и художников. Так что я чувствую, вы знаете, что в каждом всегда есть это существенное художественное намерение. Это не исключение, но некоторые из нас каким-то образом рисуют картины.
Когда он говорил, довольно легко и небрежно с другими людьми, мел шел очень быстро и позже становился контуром живого человека, выраженным оболочкой этого контура. Это понятия, превращенные в слова или в разум, которые очень интересны и бесконечно загадочны для скульпторов и художников. Так что я чувствую, вы знаете, что в каждом всегда есть это существенное художественное намерение. Это не исключение, но некоторые из нас каким-то образом рисуют картины.
RB: Пока вы говорили, кажется, что вы действовали в значительной степени самогенерирующим образом, и тем не менее, некоторые вещи, которые вы говорите, указывают на то, что район Гроув Холл в Роксбери был довольно приятной средой, по сути. , за ресурсы, за друзей. Было ли это также психологически хорошим местом для людей, которые хотели выразить себя?
AP: Я считаю, что то, что некоторые из нас делали, когда встречались в аптеке и обсуждали поэзию, например, на Блю-Хилл-авеню, за районом Франклин-парка, было типично романтическим занятием. Это не было чем-то особенным для этой области, но мы сделали это на фоне, совершенно не похожем на него, может быть, в нем было немного снобизма, но это также создавало этот контраст. Не думаю, что мы собирались изображать из себя художников и поэтов. Было не так холодно, как все это. Мы просто наслаждались этим, как некоторые люди наслаждаются другими вещами. Но был тот очевидный контраст. Мы не были с другими бандами, которые рыскали по парку, и, вероятно, большинство из нас просто плохо разбирались в спорте или никогда не имели представления о таких вещах, которые приносили бы достаточно компетентности. Я знаю, что это было верно в отношении меня и, возможно, некоторых других, которых я знал. Так что я чувствовал, что обстановка благоприятствует, по крайней мере, первому шагу в жизнь искусства. Но не потому, что представляли музеи, концерты и тому подобное. Для этого нам пришлось выйти за пределы этого района. Но было какое-то контрастирование вкусов, какая-то безмятежность, когда все остальное было бурным.
Это не было чем-то особенным для этой области, но мы сделали это на фоне, совершенно не похожем на него, может быть, в нем было немного снобизма, но это также создавало этот контраст. Не думаю, что мы собирались изображать из себя художников и поэтов. Было не так холодно, как все это. Мы просто наслаждались этим, как некоторые люди наслаждаются другими вещами. Но был тот очевидный контраст. Мы не были с другими бандами, которые рыскали по парку, и, вероятно, большинство из нас просто плохо разбирались в спорте или никогда не имели представления о таких вещах, которые приносили бы достаточно компетентности. Я знаю, что это было верно в отношении меня и, возможно, некоторых других, которых я знал. Так что я чувствовал, что обстановка благоприятствует, по крайней мере, первому шагу в жизнь искусства. Но не потому, что представляли музеи, концерты и тому подобное. Для этого нам пришлось выйти за пределы этого района. Но было какое-то контрастирование вкусов, какая-то безмятежность, когда все остальное было бурным. В обществе в то время не было постоянных волнений с насилием на улицах этого района. Но это было в мире вообще. Шла разрушительная Вторая мировая война, и улицы были относительно мирными. И люди шли. Мы гуляли. Возможно, это отчасти было условием отсутствия достатка, что мы должны были делать то, но мы также могли делать то, и все то значение, которое это могло иметь временами для молодого человека. Когда у моей сестры был друг, который незаметно водил нас в подвальную квартиру и играл, я впервые услышал запись фортепианного концерта Шумана, полную запись, которую пришлось переделывать. А потом один из друзей встал и спел немного Вагнера. Это было ошеломляюще. Возможно, дело в том, что я никогда не слышал об этом раньше, разве что по радио, в старых записях. Ограничение так называемой культуры сделало доступность некоторых ее фрагментов гораздо более значимой. Было также приятно познакомиться с другими людьми, интересующимися искусством в целом. Своего рода убежище в этом и взаимоподдержка.
В обществе в то время не было постоянных волнений с насилием на улицах этого района. Но это было в мире вообще. Шла разрушительная Вторая мировая война, и улицы были относительно мирными. И люди шли. Мы гуляли. Возможно, это отчасти было условием отсутствия достатка, что мы должны были делать то, но мы также могли делать то, и все то значение, которое это могло иметь временами для молодого человека. Когда у моей сестры был друг, который незаметно водил нас в подвальную квартиру и играл, я впервые услышал запись фортепианного концерта Шумана, полную запись, которую пришлось переделывать. А потом один из друзей встал и спел немного Вагнера. Это было ошеломляюще. Возможно, дело в том, что я никогда не слышал об этом раньше, разве что по радио, в старых записях. Ограничение так называемой культуры сделало доступность некоторых ее фрагментов гораздо более значимой. Было также приятно познакомиться с другими людьми, интересующимися искусством в целом. Своего рода убежище в этом и взаимоподдержка. Так оно и начало формироваться; дружба, которая все еще существует. Думаю, именно так и сейчас происходит среди моих учеников. Но мы, большинство из нас, делали что-то если не угрожающее, то по крайней мере таинственное для наших семей, неизвестное. Не только американо-еврейские семьи, но и другие, не являющиеся евреями, тоже чувствовали, что их дети, посещая художественную школу, попадают, возможно, в мрачные и странные сферы существования. И я знаю, что многие из нас чувствовали, что надо их как-то усмирить, т. е. успокоить, и тут было, я думаю, сильно рано выставляться, чтобы показать некую респектабельность. Было не так много возможностей для выставок, но мы, в каком-то смысле, позволили этому случиться, я думаю, чтобы иметь возможность пойти домой и сказать: «Посмотрите, что я делаю, это нормально, это серьезно, и есть конкуренция». в этом универмаге, как Джордан Марш или что-то в этом роде, или я выиграл этот приз, или я буду преподавать в следующем семестре. Это тоже способ. Лично у меня не было активного противодействия ни от одного из родителей, но всегда была определенная озабоченность, которая беспокоила меня.
Так оно и начало формироваться; дружба, которая все еще существует. Думаю, именно так и сейчас происходит среди моих учеников. Но мы, большинство из нас, делали что-то если не угрожающее, то по крайней мере таинственное для наших семей, неизвестное. Не только американо-еврейские семьи, но и другие, не являющиеся евреями, тоже чувствовали, что их дети, посещая художественную школу, попадают, возможно, в мрачные и странные сферы существования. И я знаю, что многие из нас чувствовали, что надо их как-то усмирить, т. е. успокоить, и тут было, я думаю, сильно рано выставляться, чтобы показать некую респектабельность. Было не так много возможностей для выставок, но мы, в каком-то смысле, позволили этому случиться, я думаю, чтобы иметь возможность пойти домой и сказать: «Посмотрите, что я делаю, это нормально, это серьезно, и есть конкуренция». в этом универмаге, как Джордан Марш или что-то в этом роде, или я выиграл этот приз, или я буду преподавать в следующем семестре. Это тоже способ. Лично у меня не было активного противодействия ни от одного из родителей, но всегда была определенная озабоченность, которая беспокоила меня. Та традиция художественной школы, которая в полной мере становилась нам все более известной, не была известна нам, художникам, это был другой мир.
Та традиция художественной школы, которая в полной мере становилась нам все более известной, не была известна нам, художникам, это был другой мир.
RB: Что они подумали, когда впервые, еще учась в старшей школе, вы пошли в музей на специальные занятия, на занятия ЛеБрехта?
AP: Я считаю, что моя мама, например, считала это достижением, как хорошие оценки, потому что происходило выделение людей. Некоторые получили их, а некоторые нет. Так что, должно быть, это был положительный момент. Просто то, что я там делала, я бы описывала бесконечно, но всегда чувствовала, что толком не справляюсь.
RB: Не могли бы вы вкратце рассказать, что вы там делали? [Смех]
AP: Да [Смех] Я как раз думал об этом. Мы сделали копии фрагментов деревянной скульптуры из Германии несколько веков назад, или гобеленов, которые выставлялись в зале, или какого-то египетского предмета. И это должно было улучшить нашу способность рендерить, моделировать поверхности, реально иллюстрировать. Для многих из нас это было захватывающим упражнением, если у вас был вкус к этому, а у меня был. Сидеть там, в прохладном коридоре, пока темнело, и просто рисовать маленькие нити ткани, как будто в мире больше ничего не имело значения, какое-то время. Это было ценно. Это не было бегством от других проблем, по крайней мере, в искусстве. Также мы работали со статуй, то есть слепков богатырской скульптуры, греческой, римской, римской скульптуры. Были большие гипсовые слепки, и мы почерпнули их определенным образом. Но затем был класс в том, что считалось свободной, выразительной акварелью. Большие кисти. Мокрые цвета. И что вы видели сегодня по дороге на урок, было темой. Что-то в этом роде. Но если нам хотелось что-то освободить, было разрешение, которое давали обстоятельства, и многие из нас в те дни очень экспериментировали, делая это. Были большие классы, но каким-то образом нам удалось, я думаю, добиться более близкого знакомства с учителем, некоторым из нас это удалось. Поскольку это продолжалось весь год, можно было познакомиться с учителем, и она была полезной.
Для многих из нас это было захватывающим упражнением, если у вас был вкус к этому, а у меня был. Сидеть там, в прохладном коридоре, пока темнело, и просто рисовать маленькие нити ткани, как будто в мире больше ничего не имело значения, какое-то время. Это было ценно. Это не было бегством от других проблем, по крайней мере, в искусстве. Также мы работали со статуй, то есть слепков богатырской скульптуры, греческой, римской, римской скульптуры. Были большие гипсовые слепки, и мы почерпнули их определенным образом. Но затем был класс в том, что считалось свободной, выразительной акварелью. Большие кисти. Мокрые цвета. И что вы видели сегодня по дороге на урок, было темой. Что-то в этом роде. Но если нам хотелось что-то освободить, было разрешение, которое давали обстоятельства, и многие из нас в те дни очень экспериментировали, делая это. Были большие классы, но каким-то образом нам удалось, я думаю, добиться более близкого знакомства с учителем, некоторым из нас это удалось. Поскольку это продолжалось весь год, можно было познакомиться с учителем, и она была полезной. Мы иногда ходили на выставки. Все сели в метро, троллейбус, как бы там ни было, метро, и пошли вниз, чтобы вместе посмотреть большое шоу. Это было действительно знакомство. Там был сам музей. Это было увлекательно, и я провел там больше времени, чем когда-либо после, даже когда я позже работал над этим, в некотором роде, преподавая в Школе-музее. Нет, это не совсем так, потому что позже в Музейной Школе занятия, сама Школа, во время войны, Школа перешла к Музею, заняла площади, большие площади Музея. Я не думаю, что то, что мы там делали, сильно отличается от того, чем подобные классы занимались бы сегодня, технически или даже философски. Но мы также встретили друг друга там, многие из нас, которые пошли вместе. Литого двора больше нет в Музее. Вот где сейчас находятся ранние американские коллекции. Тогда он назывался «Литой двор». Огромные статуи. Я предполагаю, что студенты не стали бы копировать фрагменты скульптуры, если бы это не преследовало более ограниченную цель копирования текстуры плюс репродукции упражнения, что-то в этом роде.
Мы иногда ходили на выставки. Все сели в метро, троллейбус, как бы там ни было, метро, и пошли вниз, чтобы вместе посмотреть большое шоу. Это было действительно знакомство. Там был сам музей. Это было увлекательно, и я провел там больше времени, чем когда-либо после, даже когда я позже работал над этим, в некотором роде, преподавая в Школе-музее. Нет, это не совсем так, потому что позже в Музейной Школе занятия, сама Школа, во время войны, Школа перешла к Музею, заняла площади, большие площади Музея. Я не думаю, что то, что мы там делали, сильно отличается от того, чем подобные классы занимались бы сегодня, технически или даже философски. Но мы также встретили друг друга там, многие из нас, которые пошли вместе. Литого двора больше нет в Музее. Вот где сейчас находятся ранние американские коллекции. Тогда он назывался «Литой двор». Огромные статуи. Я предполагаю, что студенты не стали бы копировать фрагменты скульптуры, если бы это не преследовало более ограниченную цель копирования текстуры плюс репродукции упражнения, что-то в этом роде. Но мы сделали это так, чтобы более таинственное внутреннее занятие было соразмерным. Это должно было быть и идеальное состояние, и соотношение размеров, и так далее. Идеалы благодати и силы, слова, которые мы сейчас редко используем.
Но мы сделали это так, чтобы более таинственное внутреннее занятие было соразмерным. Это должно было быть и идеальное состояние, и соотношение размеров, и так далее. Идеалы благодати и силы, слова, которые мы сейчас редко используем.
RB: Но на ваших учеников они по-прежнему влияют?
AP: Да, я так думаю. Да. Но безмолвное занятие рисованием никогда не было словесным. Это было то же самое, что мы сейчас пытаемся спотыкаться, поскольку я сейчас спотыкаюсь, чтобы описать словами, что на самом деле является очень невербальным и связанным с чувствами видом опыта. Тогда мы назвали бы его абстрактным в том виде, в каком он появляется в работе. Абстракции были известны нам тогда, в сороковых, начале сороковых годов, и видны повсюду. И некоторые из нас уже, когда мы думали о стиле и периоде, уже думали, что абстрактный стиль устарел, стиль, во многих отношениях мало чем отличающийся от того, что мы видим сейчас как минимальное искусство.
RB: Вы имеете в виду, говоря о Певзнере или Габо. . . ?
Точка доступа: Да. На самом деле, я думал о Габо. Да. Впервые я увидел в школе, в Бостонском университете, выставку пластики и скульптуры. Я вспомнил, как обращался с габо, который однажды получил для выставки в Брандейсе; распаковка и так далее. Как это было сделано в начале тридцатых годов, я думаю. Он казался таким хрупким. Пластик был не так хорош, как сейчас. Он не был таким однородным или блестящим, но в каком-то смысле он был гораздо более очеловечен из-за этих несовершенств, как это иногда бывает с работами Дюшана. В его руке до сих пор чувствуется прикосновение, очень приятно. Но, знаете, мы подумали, я говорю, я, пожалуй, не должен был бы говорить мы, но кажется, что вокруг меня было такое согласие, которое, когда вы не подвергаете его сомнению, существует в вашем уме и действует. . Мы думали и чувствовали, что вот-вот увидим нечто иное в манипулировании самим пигментом, что сейчас называется просто экспрессионистской кистью, но тогда это имело для нас метафизический смысл, а также новое начало. Потому что рисование вокруг нас либо с академической точки зрения, либо с тем, что мы думали, чувствовали, некоторые из нас, было своего рода стерилизованным, экспрессионистским своего рода геометрическим пуризмом. Тот конец тоже. Сама поверхность не на что-то намекала, не так много вовлекала, а мы, я думаю, этого и хотели. Вот почему ранние работы Левина, которые мы видели впервые, сплошь густые и измученные краской, а иногда и чрезвычайно милые именно в этой вариации поверхности, были одновременно связующим звеном с тем, как мы чувствовали себя при рисовании. должно быть в определенное время в прошлом, а также новое использование для таких вещей. Сутин нас очень интересовал. Наш учитель Карл Зербе в школе все время готовил, буквально, энкаустикой, становясь то толще, то тоньше. [Смех] Все это было чудесно и имело личное значение. Позже это стало действительно лишь другим способом, и не единственным. У каждого поколения были области увлечения «как», техниками, несомненными неудачами и всеми другими проблемами.
Потому что рисование вокруг нас либо с академической точки зрения, либо с тем, что мы думали, чувствовали, некоторые из нас, было своего рода стерилизованным, экспрессионистским своего рода геометрическим пуризмом. Тот конец тоже. Сама поверхность не на что-то намекала, не так много вовлекала, а мы, я думаю, этого и хотели. Вот почему ранние работы Левина, которые мы видели впервые, сплошь густые и измученные краской, а иногда и чрезвычайно милые именно в этой вариации поверхности, были одновременно связующим звеном с тем, как мы чувствовали себя при рисовании. должно быть в определенное время в прошлом, а также новое использование для таких вещей. Сутин нас очень интересовал. Наш учитель Карл Зербе в школе все время готовил, буквально, энкаустикой, становясь то толще, то тоньше. [Смех] Все это было чудесно и имело личное значение. Позже это стало действительно лишь другим способом, и не единственным. У каждого поколения были области увлечения «как», техниками, несомненными неудачами и всеми другими проблемами.
RB: Вы были особенно заинтересованы в живописи поверхности и экспрессионистских вещей, которые вы видели либо в старом академическом стиле, либо в современной работе, по большей части. Большая часть этого была слишком гладкой и мягкой?
AP: Да, в этот момент я думаю, что мне лучше начать, в целях самообороны, отделять себя от «мы», которые я привел здесь, потому что я уже чувствовал, как и каждый из нас, конечно, должен был , что с обеих сторон существовал личный и своего рода групповой интерес как к новизне, так и к исследованиям. Меня интересовали академические художники Бостона. Какое-то время казалось, что я один, но потом в разговорах с тогдашними друзьями я знал, узнавал, что есть равный интерес. Мы осудили старых бостонских артистов за то, что они зашли в тупик. Мы боялись их, но не лично, но боялись, что мы никогда не сможем стать заметными или оставить след, пока еще существовала эта сила, которую многие из нас считали декадентской. Все это несправедливо, но в некотором роде вполне типично для буйного новичка. Но я тоже был очарован и тихонько ходил смотреть, не хитро, а тихонько, когда было какое-то затишье, смотреть и спектакли, и работы этих людей, и репродукции, и прочее. Я также понял, что каждый человек был революцией, ставшей в некотором роде традицией. Безусловно, в этих работах должно быть больше жизненной силы, чем простое отбрасывание их как академических. Теперь некоторые из нас находятся в положении, когда их называют академическими, как мы называли их академическими, этих других художников, академическими. Конечно, то же самое произошло. Мы хотели бы, я думаю, каждый, претендовать на определенный предел более сочувственного понимания, я полагаю, как и некоторые из нас, что-то, мертвые, которые работали на вас, никогда не могли бы сказать нам, если мы не прогоним их обратно .
Все это несправедливо, но в некотором роде вполне типично для буйного новичка. Но я тоже был очарован и тихонько ходил смотреть, не хитро, а тихонько, когда было какое-то затишье, смотреть и спектакли, и работы этих людей, и репродукции, и прочее. Я также понял, что каждый человек был революцией, ставшей в некотором роде традицией. Безусловно, в этих работах должно быть больше жизненной силы, чем простое отбрасывание их как академических. Теперь некоторые из нас находятся в положении, когда их называют академическими, как мы называли их академическими, этих других художников, академическими. Конечно, то же самое произошло. Мы хотели бы, я думаю, каждый, претендовать на определенный предел более сочувственного понимания, я полагаю, как и некоторые из нас, что-то, мертвые, которые работали на вас, никогда не могли бы сказать нам, если мы не прогоним их обратно .
RB: Эти бостонские художники собрали бостонские выставки, не так ли? В то время, не так ли?
AP: Ну, сейчас я говорю о начале сороковых годов, и я думаю, что то, что тогда было известно как бостонское искусство, в массовом порядке. . . .
. . .
RB: Не могли бы вы рассказать что-нибудь о своем посещении Школы-музея? Почему, может быть, вы пошли на это?
Точка доступа: Да. В те годы они назывались городскими стипендиальными классами, годами старшей школы. В самом Музее я начал понимать, что рядом с Музеем, в его собственном здании, была большая и очень продуктивная художественная школа. И я посетил студенческие выставки, и меня действительно захватило очарование увидеть своего рода сложное мастерство. Студенты делали вещи, которые, как мне казалось, делались сейчас, с привкусом, интенсивностью, мастерством, которого я нигде не видел, и это казалось вне академического, включая мои собственные склонности к академическому. Кроме того, это, должно быть, было решением того, что я должен был сделать. Я никогда не собирался становиться учителем иврита, хотя мне кажется, что окружающие меня люди так и думали, но я знал, что это не так. Я знал, что есть стипендии, и просто сдал экзамен. Я не готовился к этому. На самом деле он рисовал весь день. Мы рисовали и рисовали с модели и немного поработали с воображением. В основном мы были старшеклассниками. И я выиграл его. Поступил в школу на половинную стипендию и нашел там людей, с которыми у меня и сейчас еще много общих интересов. Столько лет спустя, как иногда бывает. Я не знал, кто такой Карл Зербе. Я говорил о первом взгляде на человека, которого мы считали важным, возможно, вдохновленным; преподаватель Школы-музея Карл Зербе. И он был таким для нас. Он приехал из Германии, не так много лет назад. Его школа живописи включала бы таких людей, как Отто Дикс и Гросс, людей, которые были знакомы с ним лично, их работами, условиями, окружающими эту работу. Он также уехал в Мексику; знал о таких живописцах, как Ривера, Сикейрос и т. д., Ороско. Как правило, мы этого не делали, и лекции были настоящим откровением. Хотя мы видели репродукции, а иногда и оригиналы Брака, Пикассо, его слова, которые звучали одновременно, сам слайд в темной комнате, это так широко расширило возможности выражения для очень многих из нас, я думал .
Я не готовился к этому. На самом деле он рисовал весь день. Мы рисовали и рисовали с модели и немного поработали с воображением. В основном мы были старшеклассниками. И я выиграл его. Поступил в школу на половинную стипендию и нашел там людей, с которыми у меня и сейчас еще много общих интересов. Столько лет спустя, как иногда бывает. Я не знал, кто такой Карл Зербе. Я говорил о первом взгляде на человека, которого мы считали важным, возможно, вдохновленным; преподаватель Школы-музея Карл Зербе. И он был таким для нас. Он приехал из Германии, не так много лет назад. Его школа живописи включала бы таких людей, как Отто Дикс и Гросс, людей, которые были знакомы с ним лично, их работами, условиями, окружающими эту работу. Он также уехал в Мексику; знал о таких живописцах, как Ривера, Сикейрос и т. д., Ороско. Как правило, мы этого не делали, и лекции были настоящим откровением. Хотя мы видели репродукции, а иногда и оригиналы Брака, Пикассо, его слова, которые звучали одновременно, сам слайд в темной комнате, это так широко расширило возможности выражения для очень многих из нас, я думал . А также он мог разрешить определенные личные эксперименты всего лишь дружеской фразой. Как и в моем случае, он говорил: «Мне не очень нравится то, что ты делаешь, Артур, но я думаю, ты должен это сделать». Этого было достаточно, и я чувствовал, что это было настолько полезно, насколько он мог быть учителем в то время. В школе было то, что казалось системой, и в школе, в которой я сейчас преподаю, она есть. Это было основано на том, о чем мы никогда не думали в философских терминах, но это философская дилемма: может ли разум информировать руку. Мы чувствовали, да, это могло. Позже у меня были бесконечные допросы в частном порядке о таких вещах. И все же я преподаю, вы знаете. Это решается этим, более или менее. Но у нас был подход, и он был основан на изучении, как если бы наука, скажем, анатомия или осознание чистой геометрической формы как понятия могло проникнуть в весь опыт ощущения и наполнить его, направить и направить. сделать из этого что-то понятное и, я думаю, мы почувствовали, что-то художественное.
А также он мог разрешить определенные личные эксперименты всего лишь дружеской фразой. Как и в моем случае, он говорил: «Мне не очень нравится то, что ты делаешь, Артур, но я думаю, ты должен это сделать». Этого было достаточно, и я чувствовал, что это было настолько полезно, насколько он мог быть учителем в то время. В школе было то, что казалось системой, и в школе, в которой я сейчас преподаю, она есть. Это было основано на том, о чем мы никогда не думали в философских терминах, но это философская дилемма: может ли разум информировать руку. Мы чувствовали, да, это могло. Позже у меня были бесконечные допросы в частном порядке о таких вещах. И все же я преподаю, вы знаете. Это решается этим, более или менее. Но у нас был подход, и он был основан на изучении, как если бы наука, скажем, анатомия или осознание чистой геометрической формы как понятия могло проникнуть в весь опыт ощущения и наполнить его, направить и направить. сделать из этого что-то понятное и, я думаю, мы почувствовали, что-то художественное. Это был традиционный подход. Такой подход был уникальным для Бостона. То есть люди работали больше с привкусом ощущений, полученных, скажем, от взгляда на Сарджента или, до него, на Франса Хальса, которого он, должно быть, смотрел на себя. Но в данном случае мы действительно смотрели на куб и конус. И, как многие люди на протяжении стольких веков, включая Сезанна, нам было что сказать об этой твердости. Мы чувствовали, что это должно было укрепить и придать определенную строгость нашей работе. Я думаю, что это произошло; по крайней мере, ощущение, что на путях учения есть твердая почва. Кроме того, вокруг нас, среди студентов, началось много относительно насыщенных личных карьер. Зербе, казалось, всегда это ценил и в этом был чрезвычайно полезен. Мы изучали перспективу, историю искусств в определенной степени, никогда не очень научно, никогда не очень интересно в научном плане, но достаточно, чтобы представить это целое. . . . Это было в значительной степени ограничено западной историей искусства, что я позже почувствовал и чувствую до сих пор.
Это был традиционный подход. Такой подход был уникальным для Бостона. То есть люди работали больше с привкусом ощущений, полученных, скажем, от взгляда на Сарджента или, до него, на Франса Хальса, которого он, должно быть, смотрел на себя. Но в данном случае мы действительно смотрели на куб и конус. И, как многие люди на протяжении стольких веков, включая Сезанна, нам было что сказать об этой твердости. Мы чувствовали, что это должно было укрепить и придать определенную строгость нашей работе. Я думаю, что это произошло; по крайней мере, ощущение, что на путях учения есть твердая почва. Кроме того, вокруг нас, среди студентов, началось много относительно насыщенных личных карьер. Зербе, казалось, всегда это ценил и в этом был чрезвычайно полезен. Мы изучали перспективу, историю искусств в определенной степени, никогда не очень научно, никогда не очень интересно в научном плане, но достаточно, чтобы представить это целое. . . . Это было в значительной степени ограничено западной историей искусства, что я позже почувствовал и чувствую до сих пор. Мы видели эти большие черно-белые слайды — четыре дюйма или что там еще — соборы, архитектурные детали, скульптуры и так далее. Европейские сокровища. Но также я увидел на какой-то площади перед собором 1920 автомобиль, человек, пересекающий улицу перед Шартром, что-то в этом роде, что дало мне или я взял из него своего рода обещание самому себе, что я буду там. [Легкий смех] Позже, когда я туда попал, мне в некотором роде повезло, конечно, я посетил все . . . постоянно реально быть там, воздух, больные ноги, холод, счастье, что бы это ни было. Но также он как бы проникал в эту историю почти сквозь слайды. Было очарование, которое держалось на опыте позже, в фрагментах истории искусства, тогдашней Школы; это было военное время, и вся неопределенность, и так далее. Само здание очень быстро превратили в госпиталь, собственно говоря, для женщин-моряков. Мы переехали в сам музей, иногда неотапливаемый, помещения такого рода. Просто цепляться за опыт школы было само по себе приключением. Это также сделало школу довольно маленькой.
Мы видели эти большие черно-белые слайды — четыре дюйма или что там еще — соборы, архитектурные детали, скульптуры и так далее. Европейские сокровища. Но также я увидел на какой-то площади перед собором 1920 автомобиль, человек, пересекающий улицу перед Шартром, что-то в этом роде, что дало мне или я взял из него своего рода обещание самому себе, что я буду там. [Легкий смех] Позже, когда я туда попал, мне в некотором роде повезло, конечно, я посетил все . . . постоянно реально быть там, воздух, больные ноги, холод, счастье, что бы это ни было. Но также он как бы проникал в эту историю почти сквозь слайды. Было очарование, которое держалось на опыте позже, в фрагментах истории искусства, тогдашней Школы; это было военное время, и вся неопределенность, и так далее. Само здание очень быстро превратили в госпиталь, собственно говоря, для женщин-моряков. Мы переехали в сам музей, иногда неотапливаемый, помещения такого рода. Просто цепляться за опыт школы было само по себе приключением. Это также сделало школу довольно маленькой. Те из нас, кто не ходил на войну, или те, кто ходил и время от времени был в Школе, не составляли очень большого сообщества. Так что на фоне всей этой неопределенности сложились такие условия воспитания, иногда очень благоприятные. То есть мы были близки и знали друг друга и уважали друг друга. Много юмора, даже нервного юмора, продолжалось все время, и многое, я думаю, также пересекалось с вдохновением. Кроме того, уже тогда были зачатки различий в личном подходе. Но они не имели значения; они не разделили нас. Тогда существовал Институт, Институт Современного Искусства, как его называли. И то, что тогда казалось, теперь, когда я смотрю на это, было действительно прекрасным, открывая коллекции того, что сейчас считается расширенным собранием европейских художников: Миро, Пикассо, Брак и так далее. Но для нас это было действительно впервые. И наряду с тем, что было в Бостонском музее, это был другой взгляд на масштабы художественной деятельности. Возможность. Это было очень захватывающее время для меня, знакомство с некоторыми людьми.
Те из нас, кто не ходил на войну, или те, кто ходил и время от времени был в Школе, не составляли очень большого сообщества. Так что на фоне всей этой неопределенности сложились такие условия воспитания, иногда очень благоприятные. То есть мы были близки и знали друг друга и уважали друг друга. Много юмора, даже нервного юмора, продолжалось все время, и многое, я думаю, также пересекалось с вдохновением. Кроме того, уже тогда были зачатки различий в личном подходе. Но они не имели значения; они не разделили нас. Тогда существовал Институт, Институт Современного Искусства, как его называли. И то, что тогда казалось, теперь, когда я смотрю на это, было действительно прекрасным, открывая коллекции того, что сейчас считается расширенным собранием европейских художников: Миро, Пикассо, Брак и так далее. Но для нас это было действительно впервые. И наряду с тем, что было в Бостонском музее, это был другой взгляд на масштабы художественной деятельности. Возможность. Это было очень захватывающее время для меня, знакомство с некоторыми людьми. Я думаю, что это уже началось в частном порядке, я никогда не узнаю, в каком происхождении, просто была возможность выращивания в такой атмосфере. Я благодарен сейчас, даже сейчас, за это. У нас в Школе был упор на технику. Карл Цербе действительно учился у Дёрнера, человека, написавшего огромный том по технике, громоздкой и очень научной работе. Но и это придало процессу определенную опору. Затем был музей Фогга, и позже я узнал, что это традиция исследования материалов и их долговечность. Мы не думали о бессмертии, но нас заботило, потемнеет ли желтый цвет с годами или само масло пожелтит пигмент. Мы очень заботились об этом. Теперь я думаю, что в более широком смысле это развитие заботы о предельной долговечности, постоянстве как бы возникло в то время, когда появился другой вид искусства, который почти уничтожил себя или жил какое-то мгновение, как бы происходящее. Это не было для нас неизвестно. Но у нас были обозначения настоящего, постоянного искусства, и мы стремились адаптироваться.
Я думаю, что это уже началось в частном порядке, я никогда не узнаю, в каком происхождении, просто была возможность выращивания в такой атмосфере. Я благодарен сейчас, даже сейчас, за это. У нас в Школе был упор на технику. Карл Цербе действительно учился у Дёрнера, человека, написавшего огромный том по технике, громоздкой и очень научной работе. Но и это придало процессу определенную опору. Затем был музей Фогга, и позже я узнал, что это традиция исследования материалов и их долговечность. Мы не думали о бессмертии, но нас заботило, потемнеет ли желтый цвет с годами или само масло пожелтит пигмент. Мы очень заботились об этом. Теперь я думаю, что в более широком смысле это развитие заботы о предельной долговечности, постоянстве как бы возникло в то время, когда появился другой вид искусства, который почти уничтожил себя или жил какое-то мгновение, как бы происходящее. Это не было для нас неизвестно. Но у нас были обозначения настоящего, постоянного искусства, и мы стремились адаптироваться. Некоторые из нас преподавали в течение учебного года. Нам разрешили помочь. Перед нами всегда была возможность, и очень хорошая, получить европейскую стипендию для путешествий. В годы войны это все было приостановлено, если конечно, и было невозможно. Но вскоре после войны их вручали, а иногда и задним числом, так что, когда я получил свой, в 1948 лет, я уже ассистировал преподавателям на пятом курсе, спецстудентам, имел опыт преподавания, а также ездил в Европу в то время, когда уезжали некоторые из старших студентов, уже окончивших школу. Это должно было быть своего рода модуляцией между студенческой жизнью и реальной жизнью для тех из нас, кому посчастливилось выиграть ее. Это не было освобождением от школы, потому что мы в каком-то смысле ставили себя в школу. Возможно, я должен говорить за себя прямо сейчас. Приехав в Европу, я за несколько дней организовал для себя что-то вроде урока рисования. Позже мне это показалось несколько смешным. Что мне придется жить и осматриваться, что я и сделал позже.
Некоторые из нас преподавали в течение учебного года. Нам разрешили помочь. Перед нами всегда была возможность, и очень хорошая, получить европейскую стипендию для путешествий. В годы войны это все было приостановлено, если конечно, и было невозможно. Но вскоре после войны их вручали, а иногда и задним числом, так что, когда я получил свой, в 1948 лет, я уже ассистировал преподавателям на пятом курсе, спецстудентам, имел опыт преподавания, а также ездил в Европу в то время, когда уезжали некоторые из старших студентов, уже окончивших школу. Это должно было быть своего рода модуляцией между студенческой жизнью и реальной жизнью для тех из нас, кому посчастливилось выиграть ее. Это не было освобождением от школы, потому что мы в каком-то смысле ставили себя в школу. Возможно, я должен говорить за себя прямо сейчас. Приехав в Европу, я за несколько дней организовал для себя что-то вроде урока рисования. Позже мне это показалось несколько смешным. Что мне придется жить и осматриваться, что я и сделал позже. Но такая постоянная тренировка, самообучение продолжались. . . . . о Зербе. Он также был практикующим художником. То есть он был в самом разгаре производства своей работы, когда я пошел в Школу. Мы могли бы пойти к нему домой в конце учебного года и посмотреть, что он сделал в течение года. Это был не просто вопрос симпатии, одобрения или неодобрения. Это было своеобразное наблюдение за тем, как человек, переселившийся в другую страну, в нашу географическую область, может продолжать работать личностно, выразительно. Мог показать, какой была его работа и во что она превратилась, пока мы еще учились у него. Были и другие учителя. . . .
Но такая постоянная тренировка, самообучение продолжались. . . . . о Зербе. Он также был практикующим художником. То есть он был в самом разгаре производства своей работы, когда я пошел в Школу. Мы могли бы пойти к нему домой в конце учебного года и посмотреть, что он сделал в течение года. Это был не просто вопрос симпатии, одобрения или неодобрения. Это было своеобразное наблюдение за тем, как человек, переселившийся в другую страну, в нашу географическую область, может продолжать работать личностно, выразительно. Мог показать, какой была его работа и во что она превратилась, пока мы еще учились у него. Были и другие учителя. . . .
RB: Говоря здесь о работе Зербе, указывает ли это на какую-либо обратную связь от того, что вы делаете? В его работу?
AP: В своей работе? Он говорил такие вещи. Это было для него народным понятием, что я узнаю от студентов, что идея. Он бы тоже так сказал. Я всегда чувствовал, что он имел в виду это. Я не мог видеть это напрямую. Я думаю, что ни один ученик тогда не был в состоянии увидеть, что он повлиял на своего учителя в любой фигуративности, конфигурации, области картины или предмета. Но я думаю, наверное, что именно эта обратная связь была правдой. Конечно, многие из студентов, казалось, подражали ему. И это было обвинением уже тогда против . . . . Вокруг вас шла критика Бостонской музейной школы. Теперь я иногда слышу это в школе, в которой преподаю. Эти упрощения всегда несправедливы. Они никогда не бывают достаточно точными, но для этого есть причина, просто если посмотреть на них грубо. Студенты, похоже, работают именно так, а не иначе. И это правда, потому что это влияние было, особенно в техническом плане. Мы экспериментировали с энкаустикой. Мы пересмотрели то, что, по нашему мнению, должно было быть способом работы сиенских, умбрийских художников. У нас были регулярные курсы — которые я позже преподавал — по нанесению сусального золота и работе с простой яичной темперой.
Я не мог видеть это напрямую. Я думаю, что ни один ученик тогда не был в состоянии увидеть, что он повлиял на своего учителя в любой фигуративности, конфигурации, области картины или предмета. Но я думаю, наверное, что именно эта обратная связь была правдой. Конечно, многие из студентов, казалось, подражали ему. И это было обвинением уже тогда против . . . . Вокруг вас шла критика Бостонской музейной школы. Теперь я иногда слышу это в школе, в которой преподаю. Эти упрощения всегда несправедливы. Они никогда не бывают достаточно точными, но для этого есть причина, просто если посмотреть на них грубо. Студенты, похоже, работают именно так, а не иначе. И это правда, потому что это влияние было, особенно в техническом плане. Мы экспериментировали с энкаустикой. Мы пересмотрели то, что, по нашему мнению, должно было быть способом работы сиенских, умбрийских художников. У нас были регулярные курсы — которые я позже преподавал — по нанесению сусального золота и работе с простой яичной темперой. Позже я встретил Шана, Бена Шана, который работал в упрощенной технике ранних итальянских художников тринадцатого века и ранее, непосредственно используя яичную темперу, когда я впервые встретил его в 19 веке.48. Мы мало говорили об остальном, то есть о стиле или самовыражении. Это подтверждалось несколькими словами, иногда дружескими или комплиментарными, Карлом Зербе или между нами. Мы относились к этому с некоторой скромностью и почти шутили по этому поводу. Так что, когда мы разговаривали, это была служебная болтовня, а не философская и не эстетически ориентированная. Мне кажется, это привело в замешательство многих художников, которых я знал и которые приехали из Нью-Йорка позже, — художников и скульпторов — и обнаружили, что бостонские художники того времени, те, кого я знал, как группы, окружавшие меня, просто не не собираются все время вместе, чтобы поговорить, как они, должно быть, делали в Нью-Йорке. Теперь все должно быть по-другому. Я думаю, что это. Но мы, в каком-то смысле, очень бережно относились к своему времени и ушли на работу.
Позже я встретил Шана, Бена Шана, который работал в упрощенной технике ранних итальянских художников тринадцатого века и ранее, непосредственно используя яичную темперу, когда я впервые встретил его в 19 веке.48. Мы мало говорили об остальном, то есть о стиле или самовыражении. Это подтверждалось несколькими словами, иногда дружескими или комплиментарными, Карлом Зербе или между нами. Мы относились к этому с некоторой скромностью и почти шутили по этому поводу. Так что, когда мы разговаривали, это была служебная болтовня, а не философская и не эстетически ориентированная. Мне кажется, это привело в замешательство многих художников, которых я знал и которые приехали из Нью-Йорка позже, — художников и скульпторов — и обнаружили, что бостонские художники того времени, те, кого я знал, как группы, окружавшие меня, просто не не собираются все время вместе, чтобы поговорить, как они, должно быть, делали в Нью-Йорке. Теперь все должно быть по-другому. Я думаю, что это. Но мы, в каком-то смысле, очень бережно относились к своему времени и ушли на работу. Всегда казалось, что в прошлом мы работали усерднее, и я до сих пор чувствую, что это, скорее всего, правда, но, наверное, с определенным удовольствием. Многие из нас стали приобретать студии в окрестностях музея. Такие люди, как Эстер Геллер и Джон Уилсон, Конгер Меткалф, уже окончившие Школу, были к тому времени уже действительно профессиональными художниками, которые выставляли и продавали свои работы. В школьные годы мы познакомились с Борисом Мирским. Я много слышал о нем, потому что он иногда давал временную работу студентам-искусствоведам, чтобы они сделали какую-то копию чего-то или заказали что-то, или даже убирали, или время от времени брали телефон. Позже я сделал все это для Бориса. И я был в курсе первого, переезда с его Чарльз-стрит, первой галереи, где были представлены современные художники, в галерею на Ньюбери-стрит, которая была около 1945. Это как первая групповая выставка, на которой были работы, наверное, 25 художников. Некоторые из них выжили, эти художники, и до сих пор являются моими друзьями и современниками, в некотором роде и продуктивными.
Всегда казалось, что в прошлом мы работали усерднее, и я до сих пор чувствую, что это, скорее всего, правда, но, наверное, с определенным удовольствием. Многие из нас стали приобретать студии в окрестностях музея. Такие люди, как Эстер Геллер и Джон Уилсон, Конгер Меткалф, уже окончившие Школу, были к тому времени уже действительно профессиональными художниками, которые выставляли и продавали свои работы. В школьные годы мы познакомились с Борисом Мирским. Я много слышал о нем, потому что он иногда давал временную работу студентам-искусствоведам, чтобы они сделали какую-то копию чего-то или заказали что-то, или даже убирали, или время от времени брали телефон. Позже я сделал все это для Бориса. И я был в курсе первого, переезда с его Чарльз-стрит, первой галереи, где были представлены современные художники, в галерею на Ньюбери-стрит, которая была около 1945. Это как первая групповая выставка, на которой были работы, наверное, 25 художников. Некоторые из них выжили, эти художники, и до сих пор являются моими друзьями и современниками, в некотором роде и продуктивными. Я не могу дать общее представление о восприятии нашей работы в то время. Например, когда я был студентом второго или третьего курса, профессор Сакс из Гарварда купил несколько моих рисунков. Было такое. Тогда это не казалось ни примечательным, ни историческим фактом. Это был приятный сюрприз, небольшой. Оно произошло на фоне почти невозможного, невозможности, какого бы то ни было признания, которого мы довольно-таки смиренно не ожидали. Мы не рассчитывали на продажу. По крайней мере, я не знал об этом, такого рода амбициях. Так что все казалось неожиданностью, когда это происходило. Вскоре после этого определенное внимание стало уделяться так называемой Бостонской школе. Так что к концу сороковых годов в Андовере, в Addision Gallery, мистером Хейсом были организованы выставки подающих надежды молодых студентов-искусствоведов страны, на которых учащиеся Музейной школы и Института также имели бы выставки этого так называемая бостонская группа. Сущность группы уже сформировалась в критическом уме, и я думаю, что нам по отдельности потребовалось немного больше времени, чтобы ощутить, что мы являемся ее частью.
Я не могу дать общее представление о восприятии нашей работы в то время. Например, когда я был студентом второго или третьего курса, профессор Сакс из Гарварда купил несколько моих рисунков. Было такое. Тогда это не казалось ни примечательным, ни историческим фактом. Это был приятный сюрприз, небольшой. Оно произошло на фоне почти невозможного, невозможности, какого бы то ни было признания, которого мы довольно-таки смиренно не ожидали. Мы не рассчитывали на продажу. По крайней мере, я не знал об этом, такого рода амбициях. Так что все казалось неожиданностью, когда это происходило. Вскоре после этого определенное внимание стало уделяться так называемой Бостонской школе. Так что к концу сороковых годов в Андовере, в Addision Gallery, мистером Хейсом были организованы выставки подающих надежды молодых студентов-искусствоведов страны, на которых учащиеся Музейной школы и Института также имели бы выставки этого так называемая бостонская группа. Сущность группы уже сформировалась в критическом уме, и я думаю, что нам по отдельности потребовалось немного больше времени, чтобы ощутить, что мы являемся ее частью. Я помню статью, в которой я фигурировал, наверное, Art News, в которой самый младший и самый старший, я был самым младшим, а Чарльз Хопкинсон был самым старшим, Бостон. . . . Народное эстетическое сообщество уже сгруппировалось, как и положено критике и репортажу, конечно. И так она стала бостонской группой.
Я помню статью, в которой я фигурировал, наверное, Art News, в которой самый младший и самый старший, я был самым младшим, а Чарльз Хопкинсон был самым старшим, Бостон. . . . Народное эстетическое сообщество уже сгруппировалось, как и положено критике и репортажу, конечно. И так она стала бостонской группой.
РБ: Считаете ли вы это искажением фактов?
AP: Нет. Не больше, чем мы признаем, в более широком масштабе, Парижскую школу, или художников Барбизонского леса, или что-то еще. Это был способ определить, что происходит, но мы не могли видеть это в готовом виде, чтобы выразить словами. Мы думали, что все это было довольно личным. . . . Мы просто оказались вместе, по отдельности.
РБ: Не могли бы вы его охарактеризовать? Если вы примете его, как бы вы его охарактеризовали?
AP: Я думаю, перечитывая, как я недавно делал, некоторые из, например, критиков «Christian Science Monitor» — Дороти Адлоу написала бы о группе — нас описывали как, большинство из нас, ученики Карла Зербе в Школе-музее. Даже такая книга, как книга Сэма Хантера, которая, кажется, называется «Американские картины 1945 года», допустила простую биографическую ошибку, отнеся Джека Левина к ученикам Школы Музея. Он никогда им не был, правда. Но сделать это казалось естественным. . . собирать вокруг такого рода исследования, своего рода взаимный стимул. Это было ядром побуждения и интереса Хантера. Я думаю, что это была смесь традиции и эксперимента, которая, по мнению других, характеризует эту группу, и каждый признал бы это в своей собственной работе. Мы не заметили сходства, потому что, знаете ли, когда вы продюсируете, это бесконечно личное дело. Вы, возможно, поражены, — позже, если только вы не были хитрыми и просто скопированы (чего мы не должны признать), чтобы увидеть эти сходства. Их всегда можно проследить, культурно, экономически, всеми путями изучения, и во всех них, безусловно, есть истина. Это была художественная школа. Мы рисовали людей и предметы. Несколько нарисованных геометрических абстракций, так называемых, но это было исключительным случаем.
Даже такая книга, как книга Сэма Хантера, которая, кажется, называется «Американские картины 1945 года», допустила простую биографическую ошибку, отнеся Джека Левина к ученикам Школы Музея. Он никогда им не был, правда. Но сделать это казалось естественным. . . собирать вокруг такого рода исследования, своего рода взаимный стимул. Это было ядром побуждения и интереса Хантера. Я думаю, что это была смесь традиции и эксперимента, которая, по мнению других, характеризует эту группу, и каждый признал бы это в своей собственной работе. Мы не заметили сходства, потому что, знаете ли, когда вы продюсируете, это бесконечно личное дело. Вы, возможно, поражены, — позже, если только вы не были хитрыми и просто скопированы (чего мы не должны признать), чтобы увидеть эти сходства. Их всегда можно проследить, культурно, экономически, всеми путями изучения, и во всех них, безусловно, есть истина. Это была художественная школа. Мы рисовали людей и предметы. Несколько нарисованных геометрических абстракций, так называемых, но это было исключительным случаем. Обычно они делались с элементами дизайна, которые делали их образными. То есть всегда было какое-то вмешательство художника, который не был просто репортером. Это не было то чистое впечатление, которое, по-видимому, производил человек, подобный Веласкесу, когда он смотрел на принцессу с определенного расстояния и рисовал то, что попадалось ему на глаза, по-видимому бесстрастно, на таком расстоянии, и получал чудесный новый взгляд на то, что мы никогда не могли бы увидеть. видеть иначе, во всяком случае, в том же самом, что мы всегда видим. Но большинство из нас этого не делали и в каком-то смысле замучили тему. Она закружилась, обезображилась и по-новому устроилась, и так далее. Все это было своего рода богатой возможностью для выражения для нас, но не было много простого натурализма или простой чистой формы геометрически.
Обычно они делались с элементами дизайна, которые делали их образными. То есть всегда было какое-то вмешательство художника, который не был просто репортером. Это не было то чистое впечатление, которое, по-видимому, производил человек, подобный Веласкесу, когда он смотрел на принцессу с определенного расстояния и рисовал то, что попадалось ему на глаза, по-видимому бесстрастно, на таком расстоянии, и получал чудесный новый взгляд на то, что мы никогда не могли бы увидеть. видеть иначе, во всяком случае, в том же самом, что мы всегда видим. Но большинство из нас этого не делали и в каком-то смысле замучили тему. Она закружилась, обезображилась и по-новому устроилась, и так далее. Все это было своего рода богатой возможностью для выражения для нас, но не было много простого натурализма или простой чистой формы геометрически.
RB: Было ли много интереса к мучениям и беспокойствам?
AP: Думаю, следует признать, что они должны были быть в сознании. . . . Это то, что, кажется, приходит из того, что иногда оглядываешься на сюжеты картин. Это были распятия, сделанные снова. Без юмора, скажем так. Или без холодной отстраненности, которая впоследствии, казалось, стала необходимой при изображении подобных сюжетов. А также множество гуманистических категорий сюжетов, рассказов, по крайней мере, о трудящихся и страдающих людях. Но зато была простая реализация в живописной форме просто головы на фоне, который, философски, в терминах себя и вне, себя и других, мы не должны так называть; но мы как бы вопросительно рисовали портрет, спрашивая, что из него можно сделать, не помня, что с ним сделано. Я продолжаю говорить с местоимением «мы» и, вероятно, ограничиваю его, потому что смутно помню некоторые переживания в живописи, некоторые сюжеты в живописи. Например, такой человек, как Дэвид Аронсон, вызвал бурную реакцию в стране, потому что его сюжеты, которые я мог бы описать как придуманные образы людей, также были библейскими персонажами и персонажами Нового Завета.
. . . Это то, что, кажется, приходит из того, что иногда оглядываешься на сюжеты картин. Это были распятия, сделанные снова. Без юмора, скажем так. Или без холодной отстраненности, которая впоследствии, казалось, стала необходимой при изображении подобных сюжетов. А также множество гуманистических категорий сюжетов, рассказов, по крайней мере, о трудящихся и страдающих людях. Но зато была простая реализация в живописной форме просто головы на фоне, который, философски, в терминах себя и вне, себя и других, мы не должны так называть; но мы как бы вопросительно рисовали портрет, спрашивая, что из него можно сделать, не помня, что с ним сделано. Я продолжаю говорить с местоимением «мы» и, вероятно, ограничиваю его, потому что смутно помню некоторые переживания в живописи, некоторые сюжеты в живописи. Например, такой человек, как Дэвид Аронсон, вызвал бурную реакцию в стране, потому что его сюжеты, которые я мог бы описать как придуманные образы людей, также были библейскими персонажами и персонажами Нового Завета. Было много возмущения, интереса и поддержки, и это не было воспринято спокойно. Он написал «Тайную вечерю», которую один бостонский критик назвал «постелью дьявола», но она получила приз Института за оригинальные картины. Итак, казалось, что все идет своим чередом, и внимание к происходящему было приковано. Я думаю, что в целом нашу работу уважали за мастерство. Мне хотелось бы думать, что такой фон выращивания отличал его от многих других экспериментов с сопоставимыми молодыми людьми. Думаю, мы этим тоже немного гордимся.
Было много возмущения, интереса и поддержки, и это не было воспринято спокойно. Он написал «Тайную вечерю», которую один бостонский критик назвал «постелью дьявола», но она получила приз Института за оригинальные картины. Итак, казалось, что все идет своим чередом, и внимание к происходящему было приковано. Я думаю, что в целом нашу работу уважали за мастерство. Мне хотелось бы думать, что такой фон выращивания отличал его от многих других экспериментов с сопоставимыми молодыми людьми. Думаю, мы этим тоже немного гордимся.
РБ: Через все это, по крайней мере для Европы, был ли Зербе главным учителем?
AP: О, были и другие. Нашим учителем рисования, у которого училось большинство из нас, о которых я сейчас говорю, был Туре Бенгц. Он по-прежнему действующий живописец и график. Он особенно вдохновлял меня тем, что содержал большую студию графического искусства в Школе и, после обучения рудиментарным техникам, позволял более широкое личностное развитие, так как мы ходили туда до полуночи, когда это было необходимо, и начинали по-своему учиться тому, что делать с простым знанием литографии и травления. Это было очень важно для меня. Рисование было очень важно в обычном смысле рисования. Это было также время, когда рисунок — мы знали свои собственные проекты в рисовании — можно было выставлять как произведения, которые были самостоятельны, самодостаточны, что также является традицией западного искусства, а может быть, и восточного искусства. Но особенно так стало вокруг Бостона, и так продолжалось. Мы начали. . . подумал бы о рисунках Хаймана Блума и до сих пор, может быть, делал бы как о работе. Возможно, это подготовка к живописи, но производная от общих экспериментов вокруг картины, но каждый из них имел право на серьезное внимание к работе. Для меня, конечно, были важны рисунки Сарджента. Также в то время я слышал много обвинений в так называемой поверхностности такой техники, как у Сарджента. Мы не доверяли этому, знаете ли. Я никогда не участвовал в этом. Были и другие чудеса в достижениях Сарджента, которые перевешивали любые… . . . Это было не то, что Сезанн давал мне за пределами нарисованного им цветочного горшка.
Это было очень важно для меня. Рисование было очень важно в обычном смысле рисования. Это было также время, когда рисунок — мы знали свои собственные проекты в рисовании — можно было выставлять как произведения, которые были самостоятельны, самодостаточны, что также является традицией западного искусства, а может быть, и восточного искусства. Но особенно так стало вокруг Бостона, и так продолжалось. Мы начали. . . подумал бы о рисунках Хаймана Блума и до сих пор, может быть, делал бы как о работе. Возможно, это подготовка к живописи, но производная от общих экспериментов вокруг картины, но каждый из них имел право на серьезное внимание к работе. Для меня, конечно, были важны рисунки Сарджента. Также в то время я слышал много обвинений в так называемой поверхностности такой техники, как у Сарджента. Мы не доверяли этому, знаете ли. Я никогда не участвовал в этом. Были и другие чудеса в достижениях Сарджента, которые перевешивали любые… . . . Это было не то, что Сезанн давал мне за пределами нарисованного им цветочного горшка. Нет, но что-то было в свете и в стоящем там человеке, изображенном, в конце концов, не фотографическом. Или только . . . никогда не было только этого. Это было частью моего личного сокровища, и поэтому я благодарен за возможность поддерживать связь с музеем. Среди людей, о которых мы часто говорили, были Модильяни и Сутин. Но затем все вернется назад — Рембрандт, Тинторетто и так далее — как это, вероятно, было на протяжении столетий.
Нет, но что-то было в свете и в стоящем там человеке, изображенном, в конце концов, не фотографическом. Или только . . . никогда не было только этого. Это было частью моего личного сокровища, и поэтому я благодарен за возможность поддерживать связь с музеем. Среди людей, о которых мы часто говорили, были Модильяни и Сутин. Но затем все вернется назад — Рембрандт, Тинторетто и так далее — как это, вероятно, было на протяжении столетий.
RB: Как вы отреагировали на вещи Пикассо, Миро и других в Институте современного искусства?
AP: Я думаю, сначала было это личное, несколько интеллектуальное, волнение увидеть что-то новое, тогда это было новым, которое не было глубоким, взаимным. . . то есть живопись и искусство вместе. Это было не то. Во-первых, это была категория возбуждения, которую я позже считал чисто культурной вещью. Но это не исключало участия каждого человека, чтобы я мог позже, увидев большого Пикассо, увлечься этим таинственным, благодарным образом, с маленькой репродукцией в книге. Но они сошлись примерно в одно и то же десятилетие. В Музее было очень мало картин современной школы, но некоторые, и некоторые неизвестные мне до этого американские мужчины. Дали, например.
Но они сошлись примерно в одно и то же десятилетие. В Музее было очень мало картин современной школы, но некоторые, и некоторые неизвестные мне до этого американские мужчины. Дали, например.
RB: Так что, Пикассо, Миро, этих, вы не впитали в свою экспрессивную жизнь, интеллектуально?
AP: Помню, в школе, может, даже на третьем курсе, делал какие-то рисунки, которые я чувствовал. . . . Есть определенное признание того, что вы видели работы Пикассо. Дело не в том, что он когда-либо был похож на Пикассо. В этом была определенная встроенная сдержанность, хотя другие люди делали это с большой выгодой. Они просто работали в манере, как это делают студенты. Я старался этого не делать. Я установил определенные ограничения на это. Но я хотел, скажем так, определенных поверхностей, которых не было ни у старых мастеров, ни у современных мастеров, какими я их считал; и я хотел узнать, как я могу сделать что-то для себя, а затем расширил то, что я пытался сделать. По этой причине экспозиция… она действительно работала ограниченным образом. Это не европейский город, по которому проходят экспонаты, или уже существовавший в городе, и не Нью-Йорк. Я помню визит в Нью-Йорк в конце сороковых, первый, и как некоторые из нас, молодых студентов-художников, ездили туда. Мы пошли, чтобы увидеть Джека Левина — я никогда не знал его лично до того визита — но также посмотреть музеи, галереи, да, которые тогда существовали. Я упомянул Хаймана Свецоффа, который в то время был… . . в то время работал в институте. И само по себе было увлекательно знать его тогда, с его интеллектуальными и личными контактами. Он знал биографии мужчин. Он знал их сочинения. Он переводил высказывания Редона об искусстве с французского и так далее. Не то чтобы я просто сидел с открытыми глазами и ртом и впитывал что-то новое. Думаю, подготовка была. Всегда должно быть, для этих вещей.
По этой причине экспозиция… она действительно работала ограниченным образом. Это не европейский город, по которому проходят экспонаты, или уже существовавший в городе, и не Нью-Йорк. Я помню визит в Нью-Йорк в конце сороковых, первый, и как некоторые из нас, молодых студентов-художников, ездили туда. Мы пошли, чтобы увидеть Джека Левина — я никогда не знал его лично до того визита — но также посмотреть музеи, галереи, да, которые тогда существовали. Я упомянул Хаймана Свецоффа, который в то время был… . . в то время работал в институте. И само по себе было увлекательно знать его тогда, с его интеллектуальными и личными контактами. Он знал биографии мужчин. Он знал их сочинения. Он переводил высказывания Редона об искусстве с французского и так далее. Не то чтобы я просто сидел с открытыми глазами и ртом и впитывал что-то новое. Думаю, подготовка была. Всегда должно быть, для этих вещей.
RB: Вы получали европейскую стипендию той осенью или сразу после того, как закончили Музей?
AP: В 48-м.
RB: Это казалось естественным сделать дальше?
AP: Я знал, что люди, которых я знал, делали это. Те, кто выиграл стипендию, соревновались и выиграли ее. Произошел конфликт. Я действительно чувствовал, и это слово, что я должен осесть где-нибудь и рисовать без школьных условий на некоторое время. Так что переезд в Европу был отвлечением, что мне было не совсем приятно. Потом, конечно, я был рад, что это произошло. Это заняло некоторое время из-за условий в Европе в то время, а также из-за необходимости видеть некоторые вещи. Казалось, что это будет первый и последний раз, когда я это сделаю. Я мало работал в первый год. Как я уже сказал, я все время рисовал, но это было своего рода подкреплением. Но я пробыл там больше года и работал непрерывно в течение многих месяцев, чего с тех пор у меня никогда не было; привилегия непрерывной работы, когда я решил ее делать, и так далее. Это кажется мне лучшим предложением всей сделки, всей стипендии. Я слышал там много концертов, немного путешествовал, не очень много, и ходил на многие фильмы. Это будет Синематека Франсэ, Музей кино, который до сих пор существует и процветает, как я слышал. И каждый день у них был новый фильм, начиная с очень близкого к первому и заканчивая современным. Это не имело прямого, зримого отношения к чему-либо в моей картине, но определенно имело отношение. Вся таинство сидения в темноте и наблюдения за этим миром происходит в фильмах, он никогда не переставал быть загадочным, богатым, реакциями и так далее.
Я слышал там много концертов, немного путешествовал, не очень много, и ходил на многие фильмы. Это будет Синематека Франсэ, Музей кино, который до сих пор существует и процветает, как я слышал. И каждый день у них был новый фильм, начиная с очень близкого к первому и заканчивая современным. Это не имело прямого, зримого отношения к чему-либо в моей картине, но определенно имело отношение. Вся таинство сидения в темноте и наблюдения за этим миром происходит в фильмах, он никогда не переставал быть загадочным, богатым, реакциями и так далее.
RB: Вас заинтересовали исторические примеры. Это была возможность, которой вы воспользовались?
Точка доступа: Да. В Европе, конечно. Ну, я делал то же, что и другие студенты-искусствоведы, и прошел километры картин, вероятно (смех) в те годы, и много архитектуры. Иногда у меня получалась определенная реакция, когда я думал, что вот, вот, посмотри; а в другое время я не мог, потому что я был там достаточно долго и мог вернуться и спокойно посмотреть, означает ли это что-то. Некоторые переживания перед «Голубой вазой» Сезанна, например. Это большое дело. Я не знаю, как описать тот день. Но я знаю, что мою одежду украли в тот же день (смех) в моей комнате, когда я вернулся. Тогда были большие выставки. Было невозможно иметь их в послевоенной Европе, и такие коллекции, как музей Кроллера-Мюллера за пределами Амстердама, не только Ван Гога, но и французские картины, некоторые пики. Думаю, одним из лучших для меня было посещение музея Гогена в Париже. Я никогда не видел столько его рисунков. Их воспроизводили не так, как сейчас, а мелкими пластырями [?]. Также я очень интересовался, как многие молодые люди были и есть, и, может быть, будут, поэтом Рильке, с которым я был знаком в переводах, но я также знал, что он был секретарем Родена. У меня была личная причина постоять в саду и оглянуться на дом, где, как мне казалось, когда-то был он, этот человек, которым я так восхищался. Но была еще и скульптура. Вечно это литературное и художественное слияние. Сам город, который тогда был порой холодным, трудным и угнетающим, тоже был городом всех этих художников и был похож на очень многие картины.
Некоторые переживания перед «Голубой вазой» Сезанна, например. Это большое дело. Я не знаю, как описать тот день. Но я знаю, что мою одежду украли в тот же день (смех) в моей комнате, когда я вернулся. Тогда были большие выставки. Было невозможно иметь их в послевоенной Европе, и такие коллекции, как музей Кроллера-Мюллера за пределами Амстердама, не только Ван Гога, но и французские картины, некоторые пики. Думаю, одним из лучших для меня было посещение музея Гогена в Париже. Я никогда не видел столько его рисунков. Их воспроизводили не так, как сейчас, а мелкими пластырями [?]. Также я очень интересовался, как многие молодые люди были и есть, и, может быть, будут, поэтом Рильке, с которым я был знаком в переводах, но я также знал, что он был секретарем Родена. У меня была личная причина постоять в саду и оглянуться на дом, где, как мне казалось, когда-то был он, этот человек, которым я так восхищался. Но была еще и скульптура. Вечно это литературное и художественное слияние. Сам город, который тогда был порой холодным, трудным и угнетающим, тоже был городом всех этих художников и был похож на очень многие картины.
RB: Вы там много общались с артистами?
AP: Иногда только несколько американских друзей получали аналогичные стипендии. В 48-м в Париже я не знал многих европейских художников. Я знал многих музыкантов, а позже я встретил некоторых художников из Израиля, которые просто оказались со мной в той области живописи, и у них было то же самое, что и у меня, до того, как я приехал во Францию. Они были почти примером поклонения этой культуры, и они начали делать что-то свое. Я не очень долго общался с ними, с некоторыми скульпторами и художниками. У меня, не особо задумываясь об этом, возникло ощущение, что то, что прорастало в Бостоне, среди знакомых мне молодых художников, было в значительной степени связано с тем, что я находил исторически, то есть в картинах прошлого. Возможно, больше, чем то, что я нашел в современной работе во Франции того времени. Я присоединился к выставке художников моложе тридцати. Салон молодых художников, там были и другие американцы, которых я не знал, и картины этих людей были. . . это звучит как очень защитная, патриотическая вещь — они выглядели так, как будто они принадлежали этому городу. Также это было трудное время для французского искусства. Они были мастерами французской живописи. Пикассо был, как всегда, очень активен, шли новые работы Матисса, Брака и так далее. Мы видели эти. Но они мало что знали об американских экспериментах. У них был очень упрощенный взгляд, у тех художников или людей, с которыми я общался. Я поймал себя на том, что почти объясняю искусство моей страны, что было положением, в котором я никогда не думал, что окажусь, или, по крайней мере, сказал, что в этом есть нечто большее, чем вы можете видеть. Позже, конечно, все это было очень исправлено обменом информацией, поездками и выставками. Нет. Я думаю, что когда я поехал в Италию, я хотел посмотреть, что было сделано, и, может быть, некоторые из фильмов, которые я видел в Париже и видел в Нью-Йорке, [я имею в виду] в Бостоне. Но, возможно, я просто не был там, где все происходило.
. . это звучит как очень защитная, патриотическая вещь — они выглядели так, как будто они принадлежали этому городу. Также это было трудное время для французского искусства. Они были мастерами французской живописи. Пикассо был, как всегда, очень активен, шли новые работы Матисса, Брака и так далее. Мы видели эти. Но они мало что знали об американских экспериментах. У них был очень упрощенный взгляд, у тех художников или людей, с которыми я общался. Я поймал себя на том, что почти объясняю искусство моей страны, что было положением, в котором я никогда не думал, что окажусь, или, по крайней мере, сказал, что в этом есть нечто большее, чем вы можете видеть. Позже, конечно, все это было очень исправлено обменом информацией, поездками и выставками. Нет. Я думаю, что когда я поехал в Италию, я хотел посмотреть, что было сделано, и, может быть, некоторые из фильмов, которые я видел в Париже и видел в Нью-Йорке, [я имею в виду] в Бостоне. Но, возможно, я просто не был там, где все происходило. Я ездил в Бельгию и знал, что Джеймс Энсор жив, а в том городе, Остенде. В то время он начал иметь для меня чрезвычайно важное значение как художник и оставался таковым чрезвычайно долгое время. Он умер в 1950. Огромная выставка в Термальном дворце того времени, в котором были великолепные галереи, заполненные Кокошкой, Шагалом. Такие люди, как Дикс и Модерзон-Беккер. Французские художники. Модильяни. Это был великолепный экспонат. Какое собрание вещей, в том числе Энсор, «Вхождение Христа в Брюссель», которое позже попало в Бостон. И окно института убрали, оно такое большое.
Я ездил в Бельгию и знал, что Джеймс Энсор жив, а в том городе, Остенде. В то время он начал иметь для меня чрезвычайно важное значение как художник и оставался таковым чрезвычайно долгое время. Он умер в 1950. Огромная выставка в Термальном дворце того времени, в котором были великолепные галереи, заполненные Кокошкой, Шагалом. Такие люди, как Дикс и Модерзон-Беккер. Французские художники. Модильяни. Это был великолепный экспонат. Какое собрание вещей, в том числе Энсор, «Вхождение Христа в Брюссель», которое позже попало в Бостон. И окно института убрали, оно такое большое.
RB: Что вас особенно привлекло в Ensor?
AP: Это был какой-то прямой, почти дерзкий способ использования краски и сюжета, то есть был иногда глуповатый, иногда торжественный, но размашистый вид сюжета. Он оттолкнул себя, свою работу от своего собственного основания, которое было классическим и очень основательным основанием в рисовании. Он у него был и он им не пользовался. В унижении оно раскрылось по-новому. Это лично для меня было интересно. Пришлось свергнуть то умение, которое я когда-то хотел и не мог постоянно хотеть, и хотел чего-то другого. И этот человек по-своему, по-своему очень богато сделал это. Иногда это была простая реакция на определенные цвета. Что он мог сделать с крышами. . . . Кроме того, было что-то о . . . . Он был в некотором роде чрезвычайно провинциальный человек, почти свободный. Вся жизнь была прожита в нескольких зданиях, хотя и в нескольких поездках тоже. Он создал своего рода обширный мир в своей работе из этого, казалось бы, ограниченного опыта. Это была для меня очень важная, вдохновляющая идея. Я думаю, что Кафка сделал это в своих произведениях. То есть это всегда был тот вопрос, берем ли мы мир и отдаем его в виде картин, или это облегчение от неиссякаемого самовозрастающего источника, за который я тогда вроде бы благоволил.
В унижении оно раскрылось по-новому. Это лично для меня было интересно. Пришлось свергнуть то умение, которое я когда-то хотел и не мог постоянно хотеть, и хотел чего-то другого. И этот человек по-своему, по-своему очень богато сделал это. Иногда это была простая реакция на определенные цвета. Что он мог сделать с крышами. . . . Кроме того, было что-то о . . . . Он был в некотором роде чрезвычайно провинциальный человек, почти свободный. Вся жизнь была прожита в нескольких зданиях, хотя и в нескольких поездках тоже. Он создал своего рода обширный мир в своей работе из этого, казалось бы, ограниченного опыта. Это была для меня очень важная, вдохновляющая идея. Я думаю, что Кафка сделал это в своих произведениях. То есть это всегда был тот вопрос, берем ли мы мир и отдаем его в виде картин, или это облегчение от неиссякаемого самовозрастающего источника, за который я тогда вроде бы благоволил.
РБ: Да. Вы упомянули, что в детстве это был контраст и то, как это на самом деле вас подстрекало, бедность и культура.
AP: На самом деле этому вопросу нет конца. Я не могу отрицать, что я был готов искать путь благодаря какому-то таинственному происхождению во мне, а также, если бы я не видел его, я, возможно, не сделал бы того, что сделал. Вы не можете этого знать.
RB: Когда вы были там, вы могли бы сказать, что вели себя как студент или считали себя профессионалом?
AP: Я думаю, когда можно было получить место и время, как это было на втором курсе, в конце 1949 года до конца 1950 года, я начал работать с непрерывностью работы, ведущей к работе о котором я не мог думать как о студенте в смысле того, что я в школе, или о том, что я все еще продолжаю быть студентом. Это был другой опыт, который я до сих пор ищу. Исследование было. . . . Мне не нужно было выходить, чтобы что-то увидеть. Я просто должен был пойти посмотреть, что я отдал и в чем заключалась борьба, что можно было открыть от одной работы к другой. Так что я чувствовал, что студенческие годы закончились. Думаю, тоже все студенческие годы был некий запас. Это представление о том, что при всем уважении и интересе, который я испытывал к учителям, на самом деле никто не мог сказать мне, что я собирался делать, не то, что я делал, что можно было бы наблюдать объективно, и я мог бы взглянуть на это иначе; но меня интересовало не это (смех), а то, что будет. Это все еще так. Возможно, теперь в моем учении это все еще вопрос. Больше всего на свете дело в том, что у меня нет входа для студента. У меня только такой взгляд и какое-то дружеское, надеюсь, наблюдение. И неким личным опытом я мог бы поделиться. Ремесло . . . .
Так что я чувствовал, что студенческие годы закончились. Думаю, тоже все студенческие годы был некий запас. Это представление о том, что при всем уважении и интересе, который я испытывал к учителям, на самом деле никто не мог сказать мне, что я собирался делать, не то, что я делал, что можно было бы наблюдать объективно, и я мог бы взглянуть на это иначе; но меня интересовало не это (смех), а то, что будет. Это все еще так. Возможно, теперь в моем учении это все еще вопрос. Больше всего на свете дело в том, что у меня нет входа для студента. У меня только такой взгляд и какое-то дружеское, надеюсь, наблюдение. И неким личным опытом я мог бы поделиться. Ремесло . . . .
RB: Прежде чем отправиться в Европу, вы уже преподавали, не так ли?
Точка доступа: Да. Те ребята, которые соревновались за европейские стипендии, обычно оставались на пятом курсе, который частично оплачивался за счет помощи в интересующем нас отделе, который платил. Кроме того, раньше я учил детей в школе, которая, как я думаю, была в основном центром обучения взрослых, но по выходным проводились детские занятия. Позже я сделал это снова в китайском районе города; Китайская YMCA, в пятидесятые годы, в течение нескольких лет. Преподавание было знакомым, давным-давно, а также портретная живопись. Даже когда я был студентом, у меня были заказы, и я получал заказы, чтобы поговорить с частью курса и сделать портрет. И делал тогда даже публичный портрет. У меня также было несколько частных студентов во Франции. Один или два, я думаю. Я помню два. Время от времени. Я не хотел этого делать. Это казалось естественным. И когда я вернулся, я почти сразу оказался вовлеченным в последнюю летнюю сессию Музея, школы в Беркшире, руководящей областью живописи.
Кроме того, раньше я учил детей в школе, которая, как я думаю, была в основном центром обучения взрослых, но по выходным проводились детские занятия. Позже я сделал это снова в китайском районе города; Китайская YMCA, в пятидесятые годы, в течение нескольких лет. Преподавание было знакомым, давным-давно, а также портретная живопись. Даже когда я был студентом, у меня были заказы, и я получал заказы, чтобы поговорить с частью курса и сделать портрет. И делал тогда даже публичный портрет. У меня также было несколько частных студентов во Франции. Один или два, я думаю. Я помню два. Время от времени. Я не хотел этого делать. Это казалось естественным. И когда я вернулся, я почти сразу оказался вовлеченным в последнюю летнюю сессию Музея, школы в Беркшире, руководящей областью живописи.
RB: Были ли у вас там коллеги?
AP: Первая сессия этого . . . первый год летней сессии был 1947. Это было новое дело — новое предприятие. Он был размещен в Беркширском музее в Питтсфилде. Первым учителем живописи был Бен Шан, и я ему ассистировал. Я думаю, Лоран, Робер Лоран, скульптор, был в то время отделом скульптуры, и ему помогал, я думаю, друг и коллега, Рино Пизано. Это был год, я уверен. Второй год я был в Европе, и Кокошка была тогда учителем: художником-резидентом, учителем, и тем, и другим. Это также произошло в Питтсфилде, и я знаю об этом от людей, которые пережили это, будучи студентами. Нет, извините, второй было не то. Тогда инструктором был Митчелл Сопорин, которому помогал Рид Кей. Это было через год после того, как пришла Кокошка, а меня не было. Моя жена училась в его классе. Я узнал об этом от нее и других. Были написаны какие-то заметки. По-видимому, это был продолжительный захватывающий опыт, и он принес много переживаний, которые продолжились благодаря работе и обучению некоторых людей, которые тогда учились. Это было после того, как я провел последнюю сессию всего этого предприятия, но люди, которые подошли, чтобы помочь мне — не то чтобы они помогали мне — но иногда появлялись в качестве учителей, — были моими бывшими учителей, Карла Зербе и Хаймана Блума, которые в то время занимались обучением в форме ремесел.
Первым учителем живописи был Бен Шан, и я ему ассистировал. Я думаю, Лоран, Робер Лоран, скульптор, был в то время отделом скульптуры, и ему помогал, я думаю, друг и коллега, Рино Пизано. Это был год, я уверен. Второй год я был в Европе, и Кокошка была тогда учителем: художником-резидентом, учителем, и тем, и другим. Это также произошло в Питтсфилде, и я знаю об этом от людей, которые пережили это, будучи студентами. Нет, извините, второй было не то. Тогда инструктором был Митчелл Сопорин, которому помогал Рид Кей. Это было через год после того, как пришла Кокошка, а меня не было. Моя жена училась в его классе. Я узнал об этом от нее и других. Были написаны какие-то заметки. По-видимому, это был продолжительный захватывающий опыт, и он принес много переживаний, которые продолжились благодаря работе и обучению некоторых людей, которые тогда учились. Это было после того, как я провел последнюю сессию всего этого предприятия, но люди, которые подошли, чтобы помочь мне — не то чтобы они помогали мне — но иногда появлялись в качестве учителей, — были моими бывшими учителей, Карла Зербе и Хаймана Блума, которые в то время занимались обучением в форме ремесел. Местрович, скульптор, был там в 1950 также. Также мы познакомились со многими композиторами и музыкантами из района Тэнглвуда, что было очень важно. Жак Ибер, который, конечно же, был знаком с Дебюсси и так далее, должен был руководить постановкой одной из его опер. Кусевицкий жил в конце сороковых и очень активно участвовал в деятельности, музыкальной деятельности Тэнглвуда.
Местрович, скульптор, был там в 1950 также. Также мы познакомились со многими композиторами и музыкантами из района Тэнглвуда, что было очень важно. Жак Ибер, который, конечно же, был знаком с Дебюсси и так далее, должен был руководить постановкой одной из его опер. Кусевицкий жил в конце сороковых и очень активно участвовал в деятельности, музыкальной деятельности Тэнглвуда.
RB: Ну, Шэн и некоторые другие, конечно, не были постоянными членами Школы-музея. . . ?
AP: Это была только летняя сессия. . . .
RB: Special — специально подобранный персонал.
ТД: Точно.
RB: Есть ли у вас какие-нибудь воспоминания о Шане, о том, как он говорил, и о некоторых ваших . . . .
AP: Я знаю, что первые дни после того, как он прибыл, были для него трудными, потому что он просто не преподавал раньше — по крайней мере, в такой обстановке — насколько мне известно. Я и еще несколько помощников составили что-то вроде миниатюрной программы, которая как бы сжимала и повторяла программу зимней школы. Итак, он обнаружил, что все это существует, но он сразу же вступил в гораздо более личный диалог со студентами. Но их было так много, что, думаю, поначалу это показалось ему утомительным. Я знаю, что он продолжал делать это в летних школах и других школах, позже, и после этого был учителем. Тем не менее, у него, казалось, не было защиты, и он отвечал на все, что, я думаю, очень полезно для студента — по технике, по фону и свету, по своим идеям. Он рассказывал истории. Ему, казалось, нравилась компания студентов, ему была интересна музыка, которая звучала поблизости. Мы мало что тогда делали — то есть как ассистенты других преподавателей или студентов — как-то мало вмешивались в его жизнь. То, что появилось позже в биографии Родмана и других, об этом мы мало знали. Возможно, тогда у меня было приблизительное представление о его существовании, но нам была известна эволюция его творчества.
Я и еще несколько помощников составили что-то вроде миниатюрной программы, которая как бы сжимала и повторяла программу зимней школы. Итак, он обнаружил, что все это существует, но он сразу же вступил в гораздо более личный диалог со студентами. Но их было так много, что, думаю, поначалу это показалось ему утомительным. Я знаю, что он продолжал делать это в летних школах и других школах, позже, и после этого был учителем. Тем не менее, у него, казалось, не было защиты, и он отвечал на все, что, я думаю, очень полезно для студента — по технике, по фону и свету, по своим идеям. Он рассказывал истории. Ему, казалось, нравилась компания студентов, ему была интересна музыка, которая звучала поблизости. Мы мало что тогда делали — то есть как ассистенты других преподавателей или студентов — как-то мало вмешивались в его жизнь. То, что появилось позже в биографии Родмана и других, об этом мы мало знали. Возможно, тогда у меня было приблизительное представление о его существовании, но нам была известна эволюция его творчества. Выставка, которая состоялась, была очень важной, в Беркширском музее. Позже он попал в Бостон. То, что действительно казалось политическим визитом, то есть Институт, заставило его заговорить. Он приходил ко мне в студию раньше, в частном порядке. Он все еще продолжал дружить с того лета и смотреть на некоторые мои работы, которые я, типа, хотел, чтобы он сделал. Это было время Прогрессивной партии. Генри Уоллес был временным явлением, художником, который, по-видимому, был вовлечен в политику и социальные изменения, как он чувствовал, что это произойдет, история, пиктография, другие вещи. Но он открыто проявлял интерес ко всему и говорил, что то, что он делает в своем родном городе в политике или в каком-нибудь штате, на выборах штата, для него так же важно, как живопись. Это было совсем не похоже на наше романтическое представление — я говорю о себе и некоторых друзьях — о том, что делал художник. Мы, конечно, не думали об этом как о побеге, но мы думали об этом как о каком-то другом виде вовлечения, если не более глубоком, то, по крайней мере, совершенно в стороне от активистской массы в мире.
Выставка, которая состоялась, была очень важной, в Беркширском музее. Позже он попал в Бостон. То, что действительно казалось политическим визитом, то есть Институт, заставило его заговорить. Он приходил ко мне в студию раньше, в частном порядке. Он все еще продолжал дружить с того лета и смотреть на некоторые мои работы, которые я, типа, хотел, чтобы он сделал. Это было время Прогрессивной партии. Генри Уоллес был временным явлением, художником, который, по-видимому, был вовлечен в политику и социальные изменения, как он чувствовал, что это произойдет, история, пиктография, другие вещи. Но он открыто проявлял интерес ко всему и говорил, что то, что он делает в своем родном городе в политике или в каком-нибудь штате, на выборах штата, для него так же важно, как живопись. Это было совсем не похоже на наше романтическое представление — я говорю о себе и некоторых друзьях — о том, что делал художник. Мы, конечно, не думали об этом как о побеге, но мы думали об этом как о каком-то другом виде вовлечения, если не более глубоком, то, по крайней мере, совершенно в стороне от активистской массы в мире. Но Шан был совсем другим, и вскоре после этого его работы приобрели огромную популярность. Он вошел во все уровни графического представления, так что стало почти скучно видеть разветвления и повторения, и это вернулось к его собственной работе. К сожалению, мы могли видеть что-то вроде разбавленного Шана в обертках и рекламных объявлениях, которые были прекрасны и кому-то очень пригодились его эксперименты, но мешали ясно увидеть, что он сделал, для чего. Я потерял с ним контакт; конечно, он мало писал, и я изредка писал ему. Видел его в последний раз, когда он приехал читать лекции Нортона в Гарварде, что стало формой содержания книги. Позже его сын был одним из учеников Школы-музея. Я видел его и какое-то время был с ним довольно дружен. Он тогда был скульптором, сын. Окружающие Шана в то время, в l947, были такие люди, как Шолом Аш, писатель, и другие, которых я не знал, но знал в других сферах деятельности, не только в искусстве. Однажды после этого я поехал к нему в гости в Нью-Джерси, в тамошнюю студию.
Но Шан был совсем другим, и вскоре после этого его работы приобрели огромную популярность. Он вошел во все уровни графического представления, так что стало почти скучно видеть разветвления и повторения, и это вернулось к его собственной работе. К сожалению, мы могли видеть что-то вроде разбавленного Шана в обертках и рекламных объявлениях, которые были прекрасны и кому-то очень пригодились его эксперименты, но мешали ясно увидеть, что он сделал, для чего. Я потерял с ним контакт; конечно, он мало писал, и я изредка писал ему. Видел его в последний раз, когда он приехал читать лекции Нортона в Гарварде, что стало формой содержания книги. Позже его сын был одним из учеников Школы-музея. Я видел его и какое-то время был с ним довольно дружен. Он тогда был скульптором, сын. Окружающие Шана в то время, в l947, были такие люди, как Шолом Аш, писатель, и другие, которых я не знал, но знал в других сферах деятельности, не только в искусстве. Однажды после этого я поехал к нему в гости в Нью-Джерси, в тамошнюю студию. Он рассказал о своих первых днях в Европе. Я еще не видел Европу. Я просто пел народную песню, испанскую или французскую, играл на гитаре. Но в то время он был очень увлечен всем брожением политической деятельности, всем представлением о третьей политической партии в этой стране. [КОНЕЦ ПЕРВОЙ СТОРОНЫ] Вторая сессия интервью с Артуром Полонским 21 мая 1972
Он рассказал о своих первых днях в Европе. Я еще не видел Европу. Я просто пел народную песню, испанскую или французскую, играл на гитаре. Но в то время он был очень увлечен всем брожением политической деятельности, всем представлением о третьей политической партии в этой стране. [КОНЕЦ ПЕРВОЙ СТОРОНЫ] Вторая сессия интервью с Артуром Полонским 21 мая 1972
RB: Сегодня я хотел бы начать с вопроса о вашем сотрудничестве с другими художниками, начиная с 1940-х годов. Я знаю, что в 1948 году был случай, когда бостонские художники находились в своего рода конфронтации с тем, что тогда было Институтом современного искусства, который очень скоро стал Институтом современного искусства. Не могли бы вы сказать что-нибудь об этом?
AP: Недавно я нашел напечатанное объявление о событии, которое стало публичным проявлением этой проблемы. Митинг, который сейчас назвали бы просто митингом протеста — не знаю, какой термин мы тогда использовали — в старой южной церкви в Бостоне, кажется, в 1948. Мне кажется, это было. . . . Возможно, это был 47-й год. Я знал об этом таким образом, что это было долго. . . . Что ж, пара лет негодования многих молодых художников по поводу того, что было в Институте современного искусства, который мы считали важным, захватывающим и поучительным учреждением в Бостоне. На самом деле довольно редко. Для многих из нас это было началом определенного признания того, что мы считали мощным и важным произведением европейского и американского искусства. Но я думаю, что мы — по крайней мере, я — не знали предыстории этого. Произошла серия акций, которые нам показались своего рода ущемлением прогрессивной позиции со стороны Музея, Института. Я уверен, что многие из тех, кого я сейчас считаю молодыми людьми, возмущавшимися этим, теперь считаются либо академическими, либо, по крайней мере, зрелыми или консервативными художниками в этой области, если они признаны художниками в все в этой области. Но в то время то, что казалось самым живым в Институте, урезали в пользу, я полагаю, чего-то вроде показов дизайна в промышленности, что было для нас категорически неплохой идеей.
Мне кажется, это было. . . . Возможно, это был 47-й год. Я знал об этом таким образом, что это было долго. . . . Что ж, пара лет негодования многих молодых художников по поводу того, что было в Институте современного искусства, который мы считали важным, захватывающим и поучительным учреждением в Бостоне. На самом деле довольно редко. Для многих из нас это было началом определенного признания того, что мы считали мощным и важным произведением европейского и американского искусства. Но я думаю, что мы — по крайней мере, я — не знали предыстории этого. Произошла серия акций, которые нам показались своего рода ущемлением прогрессивной позиции со стороны Музея, Института. Я уверен, что многие из тех, кого я сейчас считаю молодыми людьми, возмущавшимися этим, теперь считаются либо академическими, либо, по крайней мере, зрелыми или консервативными художниками в этой области, если они признаны художниками в все в этой области. Но в то время то, что казалось самым живым в Институте, урезали в пользу, я полагаю, чего-то вроде показов дизайна в промышленности, что было для нас категорически неплохой идеей. Это было неплохо. Мне казалось, что будет отнята поддержка интереса к тому, что должно было произойти, то есть к тому, что происходило среди молодых художников. Затем изменение названия, которое действительно вызвало некоторое замешательство и ужас за пределами Бостона, потому что в то время — все эти слова, конечно, меняют свое значение — слово «современный» казалось обнадеживающим и полным будущего. и слово «современный» казалось более мягким заменителем. Почему-то институт сменил название на Институт современного искусства. И мы думали тогда, что консервативные элементы, которых искали для его финансовой поддержки, оказали на него определенное давление. Кроме того, были небольшие инциденты, такие как двойное открытие выставки, на которую художники были приглашены на одну ночь, а публика, которая в то время была частной публикой, пригласила на другую ночь, объясняя это тем, что лестница была слишком хрупкий, чтобы поддерживать так много людей. С характерной, быть может, злобой тогдашней молодежи мы чувствовали, нет, это было дискриминацией по отношению к нам из-за того, что мы артисты, — хотя наши работы выставлялись, — а также, может быть, из-за того, как мы одевались или действовали.
Это было неплохо. Мне казалось, что будет отнята поддержка интереса к тому, что должно было произойти, то есть к тому, что происходило среди молодых художников. Затем изменение названия, которое действительно вызвало некоторое замешательство и ужас за пределами Бостона, потому что в то время — все эти слова, конечно, меняют свое значение — слово «современный» казалось обнадеживающим и полным будущего. и слово «современный» казалось более мягким заменителем. Почему-то институт сменил название на Институт современного искусства. И мы думали тогда, что консервативные элементы, которых искали для его финансовой поддержки, оказали на него определенное давление. Кроме того, были небольшие инциденты, такие как двойное открытие выставки, на которую художники были приглашены на одну ночь, а публика, которая в то время была частной публикой, пригласила на другую ночь, объясняя это тем, что лестница была слишком хрупкий, чтобы поддерживать так много людей. С характерной, быть может, злобой тогдашней молодежи мы чувствовали, нет, это было дискриминацией по отношению к нам из-за того, что мы артисты, — хотя наши работы выставлялись, — а также, может быть, из-за того, как мы одевались или действовали. Теперь это могло быть неразумно. Не все так, но я слышал об озвучивании подобных обид в свое время. В том году он вырос довольно замечательно. Мы организовывали встречи, в которых мы — я лично не участвовал в этом, хотя некоторые люди, которых я знал, были. Например, такой человек, как Джек Левин, который не был в Бостоне уже несколько лет, впервые за много лет пришел выступить на этом собрании. У Хаймана Блума также был вежливый, тщательно сформулированный документ протеста, который кто-то прочитал. Он не часто появлялся на публике в одно и то же время. Подошел Янсон, искусствовед. Карл Зербе, он был нашим учителем. Институт определенно чувствовал себя атакованным, потому что в то время это было равносильно публичному уведомлению. То есть это не телевидение, а как минимум кинохроника и журнально-газетное освещение во всех его аспектах. И я считаю, что были заявления в ответ на это, и я думаю, что одно из них было сделано в сотрудничестве с другими учреждениями. Я не уверен, но думаю, что и Музей современного искусства вмешался в публичную защиту, выбор названия «современный» вместо «современный» и так далее.
Теперь это могло быть неразумно. Не все так, но я слышал об озвучивании подобных обид в свое время. В том году он вырос довольно замечательно. Мы организовывали встречи, в которых мы — я лично не участвовал в этом, хотя некоторые люди, которых я знал, были. Например, такой человек, как Джек Левин, который не был в Бостоне уже несколько лет, впервые за много лет пришел выступить на этом собрании. У Хаймана Блума также был вежливый, тщательно сформулированный документ протеста, который кто-то прочитал. Он не часто появлялся на публике в одно и то же время. Подошел Янсон, искусствовед. Карл Зербе, он был нашим учителем. Институт определенно чувствовал себя атакованным, потому что в то время это было равносильно публичному уведомлению. То есть это не телевидение, а как минимум кинохроника и журнально-газетное освещение во всех его аспектах. И я считаю, что были заявления в ответ на это, и я думаю, что одно из них было сделано в сотрудничестве с другими учреждениями. Я не уверен, но думаю, что и Музей современного искусства вмешался в публичную защиту, выбор названия «современный» вместо «современный» и так далее. И подтверждение своей верности жизненной силе происходящего.
И подтверждение своей верности жизненной силе происходящего.
RB: В чем причина недовольства художников Институтом? Кроме того, как вы упомянули, отверстия . . . ?
Точка доступа: Да. Но я думаю, что это верно в жизни в целом, опасение или, в некоторых случаях, уверенность в том, что Институт превратится в витрину для чего-то совсем иного, чем то, что мы думали, что он должен показывать и поддерживать, и особенно показывать . . . держите это для публики. Это было время, когда еще в Бостоне люди, считавшие себя либо молодыми, либо современными, либо в каком-то смысле сильно новаторскими или личными, широко распространенными, не включали этих людей, в том числе таких людей, как наш собственный учитель Карл Зербе, которого уважали и собирали по всей стране и, в некотором смысле, тихо в районе Новой Англии, но никогда, например, в Музее изящных искусств. Или, я полагаю, что они владели одной акварелью, и в то время, когда его работы весьма серьезно и с удовольствием приобретались некоторыми другими учреждениями.
RB: Не могли бы вы увидеть, например, в Музее современного искусства американское искусство ХХ века?
ТД: Не помню. . . .
РБ: Выставлялся?
AP: Европейское искусство я помню, пожалуй, больше, чем американское, хотя что-то продолжалось в Институте во время этой — после этой проблемы, и я не знаю, как сейчас. Это настолько изменило деятельность и аспекты, что я не мог сравнить это с тем временем. Каждый год проводилось шоу художников Новой Англии, что было очень важно. Было жюри, призы и так далее. Затем были персональные показы — я, кажется, не помню, часто ли показывались американские артисты. Например, я помню, как впервые увидел настоящего Дали; одну картину Матисса, репродукции которой я никогда не видел. Дюфи. Они были из коллекций Новой Англии. Это один из мужчин-режиссеров. . . . Институтом в 46-47 годах руководили г-н Меткалф и еще один человек по имени г-н Аллен, которые обладали этой чудесной информацией, знаниями, а иногда и приобретением работ недавних великих европейских художников, таких как Сезанн, Матисс и т. д. . Дюфи, др. И отпечатки тоже. И брали бы или кредиты на эти интересные предметы, или получали бы подобные предметы для своих выставок. Это было очень интересное и познавательное мероприятие. Я не был достаточно близко к полемике, чтобы точно знать, каковы были пункты протестов или ответ. Я был несколько более вовлечен в это после того, как это было закончено, и это было в 1948, когда мне показалось, что Институт в некотором роде изменил свою политику из-за всей этой болезненной реакции художников. Так казалось. И в то время у них был спектакль из трех человек, который, должно быть, был в начале осени 1948 года, что, как я думал и чувствовал, было тогда, когда режиссер… . . . Я думал, что это попытка начать все сначала с некой дружественной коалицией, знаете ли, сил. Я был одним из трех художников и человека по имени Лукас Месслер, который был… . . пожилой европейский художник, поселившийся в районе Бостона, малоизвестный, и Панос Гикас. Но каждый из нас представлял явно разный подход в живописи.
д. . Дюфи, др. И отпечатки тоже. И брали бы или кредиты на эти интересные предметы, или получали бы подобные предметы для своих выставок. Это было очень интересное и познавательное мероприятие. Я не был достаточно близко к полемике, чтобы точно знать, каковы были пункты протестов или ответ. Я был несколько более вовлечен в это после того, как это было закончено, и это было в 1948, когда мне показалось, что Институт в некотором роде изменил свою политику из-за всей этой болезненной реакции художников. Так казалось. И в то время у них был спектакль из трех человек, который, должно быть, был в начале осени 1948 года, что, как я думал и чувствовал, было тогда, когда режиссер… . . . Я думал, что это попытка начать все сначала с некой дружественной коалицией, знаете ли, сил. Я был одним из трех художников и человека по имени Лукас Месслер, который был… . . пожилой европейский художник, поселившийся в районе Бостона, малоизвестный, и Панос Гикас. Но каждый из нас представлял явно разный подход в живописи. Гикас был в том, что тогда считалось геометрическим или абстрактным стилем, а Месслер, репрезентативным, но очень персонализированным, чем-то близким Файнингеру, Клее; какая-то тихая, небольшого формата, красиво нарисованная и тд. И моя работа, которая, я полагаю, показалась некоторым по крайней мере характерной, если не типичной, того, что происходило тогда среди некоторых выходцев, например, из Музейной школы, бостонских художников более молодого возраста. Спектакль на троих. Это широко освещалось, шоу. Оно попало, например, в Art News в Нью-Йорке с серьезными и пространными рецензиями. Некоторые из моих друзей сочли мое участие предательством, и только тогда я понял, что вражда сохраняется и что я наивно думал, что все кончено.
Гикас был в том, что тогда считалось геометрическим или абстрактным стилем, а Месслер, репрезентативным, но очень персонализированным, чем-то близким Файнингеру, Клее; какая-то тихая, небольшого формата, красиво нарисованная и тд. И моя работа, которая, я полагаю, показалась некоторым по крайней мере характерной, если не типичной, того, что происходило тогда среди некоторых выходцев, например, из Музейной школы, бостонских художников более молодого возраста. Спектакль на троих. Это широко освещалось, шоу. Оно попало, например, в Art News в Нью-Йорке с серьезными и пространными рецензиями. Некоторые из моих друзей сочли мое участие предательством, и только тогда я понял, что вражда сохраняется и что я наивно думал, что все кончено.
RB: Это было после . . . ?
AP: Когда все успокоилось, правда. Я сейчас припоминаю, что некоторые проблемы казались нам условиями, на которых мы там выставлялись. Выбор был сделан директорами Института, что не было чем-то необычным, но нас это возмутило. Нам нечего было сказать об, опять же, открытии или представлении публике, огласке. Я думаю, что это было важно для людей, протестовавших против Института. И мне показалось, что когда я получил телеграмму, собственно говоря, от г-на Плаута, в котором говорилось: «Согласитесь ли вы выступить в этом спектакле из трех человек? что в некотором смысле мы выиграли, по крайней мере, по некоторым пунктам. Я так и думал. Это казалось разумным.
Нам нечего было сказать об, опять же, открытии или представлении публике, огласке. Я думаю, что это было важно для людей, протестовавших против Института. И мне показалось, что когда я получил телеграмму, собственно говоря, от г-на Плаута, в котором говорилось: «Согласитесь ли вы выступить в этом спектакле из трех человек? что в некотором смысле мы выиграли, по крайней мере, по некоторым пунктам. Я так и думал. Это казалось разумным.
RB: Вам разрешили выбрать свою работу?
Точка доступа: Да. По крайней мере, я представил большее число, которое было несколько уменьшено. На самом деле, формально на открытие шоу меня не пригласили (смех). Я смотрел в окно, и человек, который тогда был секретарем, сказал: «Почему бы вам просто не прийти сегодня вечером? Мы открываемся сегодня вечером». Это может быть драматическим представлением о каком-то недосмотре, но я не уверен, что так оно и было. Так продолжалось. Возможно, с их точки зрения, это не было какой-то социальной дискриминацией художников. Этого не могло быть. Но это было легко интерпретировать таким образом. Мы стали довольно обидчивы по этому поводу и почувствовали, что так оно и есть. Что бы было другое направление. Все это не было бы для нас болезненным и важным, если бы у нас не было таких надежд на то, что Институт является такой силой, как частной для нас, так и публичной, вокруг Бостона, так что такая вещь была действительно нужна в то время. .
Этого не могло быть. Но это было легко интерпретировать таким образом. Мы стали довольно обидчивы по этому поводу и почувствовали, что так оно и есть. Что бы было другое направление. Все это не было бы для нас болезненным и важным, если бы у нас не было таких надежд на то, что Институт является такой силой, как частной для нас, так и публичной, вокруг Бостона, так что такая вещь была действительно нужна в то время. .
RB: Ваше выступление втроем широко освещалось в прессе. . . . В то время большое внимание уделялось тому, что происходило в искусстве в Бостоне, не так ли, на национальном уровне?
Точка доступа: Да. Был человек, работавший на «Тайм-лайф», который был в Бостоне — каким-то образом дислоцировался в Бостоне или жил там, я не уверен, — у которого было настоящее любопытство, интерес именно к этому, к так называемому Новому Бостону. Группа, школа, которую я уже тогда не могла видеть ни школой, ни группой. Я всегда думал, что это юмористическое обозначение; но позже я согласился. Исторически, по крайней мере, категорически так и должно быть. И он брал интервью, поодиночке брал интервью у артистов, и дружелюбно с ними разговаривал, и приходил на спектакли; и время от времени уведомлять об этом. Я думаю, что он был ответственен, по крайней мере, за большую колонку в журнале Time о Борисе Мирском и о простой истории о новаторских усилиях Мирского в области современного искусства в Бостоне. Это было время, например, обмена выставками между галереей Даунтаун в Нью-Йорке и галереей Бориса Мирского в Бостоне. я думаю 1947. В 48-м я знаю, что где-то в том же году Art News опубликовали большой двухстраничный комментарий и большую групповую фотографию, которая давала своего рода круглую картину озабоченности различных художников этой новой производительностью в Бостоне. В него входили такие люди, как Мод Морган и Лоуренс Купферман, которые тогда были уже более зрелыми участниками. Кажется, я был упомянут как самый младший, а Чарльз Хопкинсон — как старший. Я не думаю, что кто-либо из нас когда-либо думал о том, чтобы быть, по крайней мере формально, членом какой-либо обозначенной группы, но просто географически и по своей деятельности мы работали в одно и то же время в одном и том же месте.
Исторически, по крайней мере, категорически так и должно быть. И он брал интервью, поодиночке брал интервью у артистов, и дружелюбно с ними разговаривал, и приходил на спектакли; и время от времени уведомлять об этом. Я думаю, что он был ответственен, по крайней мере, за большую колонку в журнале Time о Борисе Мирском и о простой истории о новаторских усилиях Мирского в области современного искусства в Бостоне. Это было время, например, обмена выставками между галереей Даунтаун в Нью-Йорке и галереей Бориса Мирского в Бостоне. я думаю 1947. В 48-м я знаю, что где-то в том же году Art News опубликовали большой двухстраничный комментарий и большую групповую фотографию, которая давала своего рода круглую картину озабоченности различных художников этой новой производительностью в Бостоне. В него входили такие люди, как Мод Морган и Лоуренс Купферман, которые тогда были уже более зрелыми участниками. Кажется, я был упомянут как самый младший, а Чарльз Хопкинсон — как старший. Я не думаю, что кто-либо из нас когда-либо думал о том, чтобы быть, по крайней мере формально, членом какой-либо обозначенной группы, но просто географически и по своей деятельности мы работали в одно и то же время в одном и том же месте.
RB: Кто этот репортер?
AP: Интересно. Я не знаю сейчас, кто это был. У меня это где-то есть.
RB: Вы, художники, чувствовали, что он действительно знает, о чем пишет? Если бы он встречался с тобой. . . ?
AP: Характерно, что мы никогда не обсуждали эти вещи. По крайней мере, меня не было рядом, когда большинство заинтересованных художников что-то говорили обо всем этом. Мы жили и действовали почти независимо друг от друга или в небольших группах, в дружбе. До тех пор, пока не была сформирована Artists’ Equity, думаю, примерно в то же время, я не знал о встречах каких-либо крупных групп художников в Бостоне, и я думаю, что она оставалась даже после Equity — отделения Equity в Новой Англии. Но в целом бостонские артисты не собирались, не собирались ни для какой-то особой цели, ни с какой-то регулярностью. Может быть, для специальных целей, иногда. Помню, что совсем недавно, но в те годы не так уж и много. Ты спросил . . . .
Ты спросил . . . .
РБ: Да. Не могли бы вы сказать что-нибудь о вашем чистом, физическом… . . работу, свою студию и различные места, где вы были, когда еще были — в этот период. . . ?
AP: Я думаю о студиях в студенческие годы. Был один, в котором работал Джон Уилсон, и он находился прямо напротив Музея, на углу Паркер-стрит, в кирпичном здании. Я думаю, что он все еще существует. Теперь я вижу Джона Уилсона почти ежедневно в течение учебного года; мы вместе на факультете в Бостонском университете. Тогда он был немного более продвинутым в школе, чем я. Думаю, на четвертом или пятом курсе, когда я поступил в Музейную школу, и у него уже была студия, которая была в некотором роде захватывающей, несколько респектабельной вещью для одного из студенты-художники. Многие из нас часто заглядывали туда, чтобы посмотреть, что он делает, а также поговорить с ним и провести некоторое время в мастерской молодого художника. Это был новый опыт. Постепенно многие из нас начали приобретать студии в этом районе. Это были Паркер-стрит, Таверн-роуд, район Филд-стрит между Хантингтон-авеню и Рагглс-стрит. Особенно на одной улице, Таверн-роуд, уже работали два скульптора. Одними из них были учитель, тогда уже пожилой человек, в музейной школе по имени Фредерик Аллен, и Элизабет Смит, скульптор помоложе. Но сразу после этого на улице я нашел старый, ветхий, фактически списанный дом — это было военное время — и делил маленькую квартирку в этом доме с тогдашним моим ближайшим другом, Михаилом Пулачевским, товарищем учащийся Школы-музея. В том здании. . . . Было военное время, арендная плата была заморожена какой-то конторой, которая заморозила арендную плату. К тому же здесь было холодно, трудно отапливалось, неудобно, но возможно и очень дешево. Хайман Свецофф какое-то время жил внизу. Позже он много лет руководил очень успешной галереей в Бостоне. В это время он писал, и я пришел к нему поздно ночью, когда мы оба перестали работать. Я знал его раньше.
Постепенно многие из нас начали приобретать студии в этом районе. Это были Паркер-стрит, Таверн-роуд, район Филд-стрит между Хантингтон-авеню и Рагглс-стрит. Особенно на одной улице, Таверн-роуд, уже работали два скульптора. Одними из них были учитель, тогда уже пожилой человек, в музейной школе по имени Фредерик Аллен, и Элизабет Смит, скульптор помоложе. Но сразу после этого на улице я нашел старый, ветхий, фактически списанный дом — это было военное время — и делил маленькую квартирку в этом доме с тогдашним моим ближайшим другом, Михаилом Пулачевским, товарищем учащийся Школы-музея. В том здании. . . . Было военное время, арендная плата была заморожена какой-то конторой, которая заморозила арендную плату. К тому же здесь было холодно, трудно отапливалось, неудобно, но возможно и очень дешево. Хайман Свецофф какое-то время жил внизу. Позже он много лет руководил очень успешной галереей в Бостоне. В это время он писал, и я пришел к нему поздно ночью, когда мы оба перестали работать. Я знал его раньше. Аллен Левин, композитор, провел там несколько зим в течение четырех лет. Наверху жил художник по имени Дженкинс. Он был, возможно. самый характерный богемный тип из всех нас. То есть вроде бы он действительно мало работал, а оказалось. И годы спустя я узнал его совсем другим во Франции. Он просто пошел туда, как многие из нас поступали по стипендии, и остался. И я верю, что он все еще там. И стал вести эмигрантов — продолжение жизни эмигрантов, о которых я читал. Каким-то образом познакомился с Пикассо, получил от него рекомендательное письмо, которое носил с собой, и просто оставался там и оставался. . . . Это маленькое место было адекватным. В то время я был и студентом, и ассистентом преподавателя на отделении живописи в Школе-музее. Там я сделал несколько портретов. Моя первая крупная комиссия, я думаю. Я сделал много портретов, которые были меньше и во многих отношениях менее важны, даже в школьные годы. Мы целыми днями ходили в школу, рисовали по вечерам, рисовали по выходным, и в целом все это занятие очень нравилось.
Аллен Левин, композитор, провел там несколько зим в течение четырех лет. Наверху жил художник по имени Дженкинс. Он был, возможно. самый характерный богемный тип из всех нас. То есть вроде бы он действительно мало работал, а оказалось. И годы спустя я узнал его совсем другим во Франции. Он просто пошел туда, как многие из нас поступали по стипендии, и остался. И я верю, что он все еще там. И стал вести эмигрантов — продолжение жизни эмигрантов, о которых я читал. Каким-то образом познакомился с Пикассо, получил от него рекомендательное письмо, которое носил с собой, и просто оставался там и оставался. . . . Это маленькое место было адекватным. В то время я был и студентом, и ассистентом преподавателя на отделении живописи в Школе-музее. Там я сделал несколько портретов. Моя первая крупная комиссия, я думаю. Я сделал много портретов, которые были меньше и во многих отношениях менее важны, даже в школьные годы. Мы целыми днями ходили в школу, рисовали по вечерам, рисовали по выходным, и в целом все это занятие очень нравилось.
RB: Когда у вас была эта студия, на какой она была. . . ?
Точка доступа: Филд Стрит. Да.
RB: Field Street, в Бостоне. Вы жили вдали от своей семьи или жили. . . ?
AP: Ну, это из-за этой студии. Мои родители и моя сестра жили в Ланне. Они вернулись в Линн. Мы жили в Роксбери несколько лет. И, имея эту студию и работая по ночам, казалось разумным просто остаться там. Хотя по выходным я ходил домой, чтобы принять ванну, например (смех). В такой студии это было невозможно. Там была ванная, но ванна была заполнена рамами и очень холодная. На самом деле, это звучит достаточно красочно, но мы бы раскололи лед через кухонную раковину утром, чтобы начать. Он отапливался небольшой масляной печью. Были какие-то вечеринки. Было новоселье (смех), собственно говоря, для этого места, которое я очень хорошо помню.
RB: Не могли бы вы описать это?
AP: Ну, на самом деле это была вечеринка-сюрприз, и просто люди, которых мы знали как сокурсники, пришли с предметами. Полотенца — не знаю что — кухонная утварь, которая в каждом случае была нужна, поэтому была востребована (смех) и поэтому ценилась. И немного музыки, и много юмора. Музыка была важна, разная музыка. Старый проигрыватель и несколько инструментов, которые у нас были. Моя скрипка. Михаил Пулачевский, с которым я делил это место, играл на гитаре, трубе, иногда на скрипке и блокфлейте. Иногда мы собирались вместе с этими инструментами. Однажды подошел Дэвид Аронсон со своим диктофоном. Именно в эту студию я когда-то водил Шана с визитом в Бостон, в это место. И хотя в то время мы . . . . Так как я работал с ним прошлым летом, мы были очень дружелюбны и очень непринужденны друг с другом, но я предполагал, даже ранним воскресным утром, что, когда у вас был такой гость, то есть известный человек… Вы должны были сделать что-то вроде достать бутылку хереса. Шерри, казалось, была вещью. Должно быть, он испугался, увидев это посреди воскресного утра; но там это было, и мы выпили это. Он посмотрел на некоторые из моих рисунков тогда.
Полотенца — не знаю что — кухонная утварь, которая в каждом случае была нужна, поэтому была востребована (смех) и поэтому ценилась. И немного музыки, и много юмора. Музыка была важна, разная музыка. Старый проигрыватель и несколько инструментов, которые у нас были. Моя скрипка. Михаил Пулачевский, с которым я делил это место, играл на гитаре, трубе, иногда на скрипке и блокфлейте. Иногда мы собирались вместе с этими инструментами. Однажды подошел Дэвид Аронсон со своим диктофоном. Именно в эту студию я когда-то водил Шана с визитом в Бостон, в это место. И хотя в то время мы . . . . Так как я работал с ним прошлым летом, мы были очень дружелюбны и очень непринужденны друг с другом, но я предполагал, даже ранним воскресным утром, что, когда у вас был такой гость, то есть известный человек… Вы должны были сделать что-то вроде достать бутылку хереса. Шерри, казалось, была вещью. Должно быть, он испугался, увидев это посреди воскресного утра; но там это было, и мы выпили это. Он посмотрел на некоторые из моих рисунков тогда. Потом он спустился в институт; выступил с политической речью. В то время проходила выставка его работ. В том районе были и другие художники. Я помню некоторые имена. Я не думаю, что они сейчас известны как художники, хотя в то время они работали достаточно серьезно.
Потом он спустился в институт; выступил с политической речью. В то время проходила выставка его работ. В том районе были и другие художники. Я помню некоторые имена. Я не думаю, что они сейчас известны как художники, хотя в то время они работали достаточно серьезно.
RB: Не могли бы вы назвать некоторые из них?
AP: Был Стивен Сидрополус, который был одним из самых уважаемых нами старшеклассников в школе за его работу в области литографии, особенно за сцены, связанные с его военным опытом. Генри Баум, у которого на самом деле было все. . . . Это напоминало почти карикатурное представление о мастерской художника, а он работал и казался ужасно утомленным своими художественными трудами, когда мы к нему приезжали. Он все еще существует. Я не видел его много лет. Позже, когда я преподавал в Музейной школе, в начале пятидесятых, этот район Бостона снова оживлялся студентами-художниками. Другое поколение. Возможно, между ними был один, который я сейчас не учитываю. И я помню, почти в том самом здании, которое я только что описал, — это было здание, в котором у моих друзей были мастерские, — в то время я был в гостях у моих учеников, у которых были свои мастерские. Один из них — Аллен Коти, который сейчас в Нью-Йорке, чувствует себя очень хорошо. И создание огромных полотен, которые, я полагаю, можно назвать совершенно абстрактными. То есть это простые геометрические формы, соединенные, как мне кажется, удивительно поэтично для такой простоты. Но очень популярный, приобретенный, очень большой и предмет многочисленных комментариев (смех). Но это, естественно, было не так, как он рисовал в то время.
И я помню, почти в том самом здании, которое я только что описал, — это было здание, в котором у моих друзей были мастерские, — в то время я был в гостях у моих учеников, у которых были свои мастерские. Один из них — Аллен Коти, который сейчас в Нью-Йорке, чувствует себя очень хорошо. И создание огромных полотен, которые, я полагаю, можно назвать совершенно абстрактными. То есть это простые геометрические формы, соединенные, как мне кажется, удивительно поэтично для такой простоты. Но очень популярный, приобретенный, очень большой и предмет многочисленных комментариев (смех). Но это, естественно, было не так, как он рисовал в то время.
РБ: Не могли бы вы сказать . . . ? Не могли бы вы сказать, что, когда вы были в этой области, было ли вообще какое-то чувство общности или общности?
Точка доступа: Да. Были и другие, и я не думаю, что я — Франческо Карбоне, который до сих пор работает художником и учителем в районе Бостона, также имел студию на Хантингтон-авеню, в конце Паркер-стрит. Между нами были свидания. Мы знали . . . . Близость была, конечно, мы ее использовали. Были и другие, я уверен. Через улицу жил человек, у которого был старый и сильно обветшалый дом, в котором было много инструментов и картин. Он был реставратором. И у него были статуи в саду. Все разваливалось и ремонтировалось, в каком-то переходном состоянии, но удивительно интересном, включая инструменты и то, что он называл Рембрандтом, которое он реставрировал, что, как мы думаем, было Рембрандтом.
Между нами были свидания. Мы знали . . . . Близость была, конечно, мы ее использовали. Были и другие, я уверен. Через улицу жил человек, у которого был старый и сильно обветшалый дом, в котором было много инструментов и картин. Он был реставратором. И у него были статуи в саду. Все разваливалось и ремонтировалось, в каком-то переходном состоянии, но удивительно интересном, включая инструменты и то, что он называл Рембрандтом, которое он реставрировал, что, как мы думаем, было Рембрандтом.
RB: Чувствовали ли вы себя отдельной группой в сообществе художников Бостона?
AP: Думаю, это происходило в двух формах: студенты или недавние выпускники музейной школы и группа Мирского. И они перекрывались, конечно, в значительной степени. В 1945 году Галерея Мирского находилась на Карловой улице. Еще раньше я слышал о Мирском, потому что знал таких людей, как, например, Джейсон Бергер. Другие, кто упомянул Мирского. И я подумал, что когда я попытаюсь устроиться на летнюю работу, я спущусь в галерею Мирского на Карловой улице, потому что я слышал, что он раздает работы, вроде копирования вещей и создания французских акварелей, пастели или чего бы то ни было. Это был своего рода художественный вид искусства, который в то время был еще возможным летним занятием. И это оказалось, на самом деле, правдой, и многие из нас работали у Мирского здесь, в его багетной мастерской, или занимались каким-то особым ремеслом или искусством, вроде операции, в которой он нуждался для своей разнообразной деятельности в то время.
Это был своего рода художественный вид искусства, который в то время был еще возможным летним занятием. И это оказалось, на самом деле, правдой, и многие из нас работали у Мирского здесь, в его багетной мастерской, или занимались каким-то особым ремеслом или искусством, вроде операции, в которой он нуждался для своей разнообразной деятельности в то время.
RB: Это произведение искусства, о котором вы говорите, относится ли к категории дешевых вещей, которые он либо продаст, либо выставит в большом магазине, или что-то в этом роде?
AP: Мы называли их халтурщиками. . . . Я помню, как делал такие вещи, как использование фотографий египетских настенных росписей или росписей гробниц для того, что я сделал, как увеличение одного мотива одной фигуры, которая стала египетской картиной. Может ли кто-нибудь считать цвет выставочной карты — цвет плаката — репродукцию египетской картины оригиналом, я не верю, что это возможно. Никто не пытался представить это таким образом, я уверен. Надеюсь, что нет. Я совершенно уверен, что. Но была эта египетская живопись, которую я делал, например, или иногда это была простая реставрация. Или, как правило, портреты. Портреты Франклина Рузвельта или Хаима Вейцмана, или какого-нибудь важного национального или международного деятеля, которые делались почти на конвейерной основе (смех), используя любые средства, чтобы получить большое количество. Собственно, эти маленькие работы и работают над . . . занимались переездом в галерею Мирского и в багетную мастерскую. . . . Многие из нас так или иначе работали на Мирского в его операциях по оформлению. Для многих из нас это также было спасением жизней. Определенная часть нашей жизни, скажем так, была спасена благодаря этому. Контакт с его галереей был важен. Дружба, связанная с этим, и деньги, полученные от такого рода деятельности, по крайней мере, в некоторой степени были связаны с тем, что мы делали.
Надеюсь, что нет. Я совершенно уверен, что. Но была эта египетская живопись, которую я делал, например, или иногда это была простая реставрация. Или, как правило, портреты. Портреты Франклина Рузвельта или Хаима Вейцмана, или какого-нибудь важного национального или международного деятеля, которые делались почти на конвейерной основе (смех), используя любые средства, чтобы получить большое количество. Собственно, эти маленькие работы и работают над . . . занимались переездом в галерею Мирского и в багетную мастерскую. . . . Многие из нас так или иначе работали на Мирского в его операциях по оформлению. Для многих из нас это также было спасением жизней. Определенная часть нашей жизни, скажем так, была спасена благодаря этому. Контакт с его галереей был важен. Дружба, связанная с этим, и деньги, полученные от такого рода деятельности, по крайней мере, в некоторой степени были связаны с тем, что мы делали.
RB: Был ли он довольно близок с молодыми людьми, работавшими с ним?
AP: Здесь всегда царила такая веселая близость. Это вылилось или переросло в долгую дружбу или, по крайней мере, иногда в общение, дружбу и привязанность. И верность и предательство. На самом деле ничто не воспринималось легкомысленно в этих ассоциациях. Если вы это имеете в виду, то я думаю, что это совершенно верно и вполне характерно для Мирского и всего окружения. . . активность, окружающая его в его первых шоу. Например, и Хайман, и Сеймур Свецофф работали на Мирски; а во времена существования первой галереи на Ньюбери-стрит галереей руководил Хайман Свецофф. А у Сеймура тогда был опыт фрейминга. Были и другие замешанные, связанные с этими людьми. Многие из знакомых мне тогда художников, будь то практикующие художники или студенты, так или иначе были связаны с Мирским, помогая реконструировать здание, в котором должна была располагаться его новая галерея на Ньюбери-стрит, или выставляясь через него. Все моноспектакли того времени. Bernard Chaet, первая персональная выставка в сороковых годах. Хайман Блум в то время тоже был связан с Борисом.
Это вылилось или переросло в долгую дружбу или, по крайней мере, иногда в общение, дружбу и привязанность. И верность и предательство. На самом деле ничто не воспринималось легкомысленно в этих ассоциациях. Если вы это имеете в виду, то я думаю, что это совершенно верно и вполне характерно для Мирского и всего окружения. . . активность, окружающая его в его первых шоу. Например, и Хайман, и Сеймур Свецофф работали на Мирски; а во времена существования первой галереи на Ньюбери-стрит галереей руководил Хайман Свецофф. А у Сеймура тогда был опыт фрейминга. Были и другие замешанные, связанные с этими людьми. Многие из знакомых мне тогда художников, будь то практикующие художники или студенты, так или иначе были связаны с Мирским, помогая реконструировать здание, в котором должна была располагаться его новая галерея на Ньюбери-стрит, или выставляясь через него. Все моноспектакли того времени. Bernard Chaet, первая персональная выставка в сороковых годах. Хайман Блум в то время тоже был связан с Борисом. Левин. Это объединение продолжалось много лет. Та обменная выставка, о которой я упоминал, выставка в 1947 между галереей Даунтаун и галереей Мирский. . . были такие рабочие отношения между галереями. Такие художники, как Зербе, Юлиан Леви и Шан и Сопорин. Шилер, другие спустились с этой галереи к Мирскому, и нас отправили туда. Отправили в Нью-Йорк.
Левин. Это объединение продолжалось много лет. Та обменная выставка, о которой я упоминал, выставка в 1947 между галереей Даунтаун и галереей Мирский. . . были такие рабочие отношения между галереями. Такие художники, как Зербе, Юлиан Леви и Шан и Сопорин. Шилер, другие спустились с этой галереи к Мирскому, и нас отправили туда. Отправили в Нью-Йорк.
RB: Вероятно, вы . . . . Вас привлекали на летнюю работу, но многие из вас потом выставлялись и на регулярных выставках у Мирского?
AP: Когда я ходил работать на Мирского на Чарльз-стрит, в маленькое заведение на Чарльз-стрит, я отвечал на телефонные звонки, или занимался какой-то сортировкой, или уборкой дома, или чем-то еще, и это продолжалось. И эти случайные работы тоже. Но я также был одним из участников первого группового шоу и других шоу. Это были в некотором роде роскошные групповые шоу, когда они, наконец, состоялись на Ньюбери-стрит, с большими открытиями, с большим количеством посетителей, сытым (смех) и интересным. Была музыка. Это был своего рода — не цирк — но, по крайней мере, своего рода ярмарочная атмосфера, окружавшая действительно серьезное и новаторское начало серьезного разоблачения различных видов искусства, в том числе мексиканской живописи, которая не тогда его часто здесь показывали. Художник Карлос Мерида, приехавший сюда на открытие выставки. С настоящей верностью определенному убеждению, которое было у Мирского, я верю, что так оно и было. Регулярное разоблачение того, что происходит среди начинающих художников в Бостоне. Другие галереи сделали это. В галерее Маргарет Браун, например, были такие прекрасные выставки художников, которых мы знали, но не видели, или что многие из нас, по крайней мере, до того времени не видели оригиналов. Гастон Лашез. Интересно, могу ли я вспомнить художников, которых представили таким образом. Гарднер Кокс, Конгер Меткалф, который до сих пор, когда я вижу его, как часто делаю сейчас, с таким уважением вспоминает Маргарет Браун, те дни и ее деятельность.
Была музыка. Это был своего рода — не цирк — но, по крайней мере, своего рода ярмарочная атмосфера, окружавшая действительно серьезное и новаторское начало серьезного разоблачения различных видов искусства, в том числе мексиканской живописи, которая не тогда его часто здесь показывали. Художник Карлос Мерида, приехавший сюда на открытие выставки. С настоящей верностью определенному убеждению, которое было у Мирского, я верю, что так оно и было. Регулярное разоблачение того, что происходит среди начинающих художников в Бостоне. Другие галереи сделали это. В галерее Маргарет Браун, например, были такие прекрасные выставки художников, которых мы знали, но не видели, или что многие из нас, по крайней мере, до того времени не видели оригиналов. Гастон Лашез. Интересно, могу ли я вспомнить художников, которых представили таким образом. Гарднер Кокс, Конгер Меткалф, который до сих пор, когда я вижу его, как часто делаю сейчас, с таким уважением вспоминает Маргарет Браун, те дни и ее деятельность.
RB: Была ли она также тесно связана со своими артистами?
AP: Думаю, да. Я ее тоже не знала. Я знал некоторых художников.
RB: Но Борис Мирский был, не так ли? Вы упомянули об этом честном качестве дебютов. Вам, молодым художникам, это нравилось или, может быть, возмущало, потому что вы упомянули, что это тоже очень серьезные вещи и новаторство?
AP: Ну, я скажу очень субъективно. Мне редко нравились какие-либо дебюты, но я считаю это полностью своим делом и своим ответом. У меня был опыт, когда иногда хотелось, чтобы начало было более живым, как в старые времена, когда дело доходит до другой крайности. В 1965 году у меня было шоу в Нью-Йорке в Durlacher, где не разрешалось ничего жидкого, даже воды, по-видимому; хотя мне удалось немного спуститься вниз (смех). И было очень тихо. Знаете, очень тихо. Дневное открытие, и я думаю, что это было из-за какой-то проблемы, которая у них была в то время, когда люди приходили только для того, чтобы выпить. Но тогда я понял, что это было довольно серьезно, что это может быть довольно пугающе, и все просто шептались и ходили вокруг на цыпочках. Не очень хорошо для других аспектов шоу, кроме еды. Значит, у Мирского было какое-то празднество, связанное с его открытием. Во-первых, это было новое место, которое недавно обустроили, и мы, большинство из нас, так или иначе связанных с ним, работали на этом месте. То есть покрасили, содрали старый ковер, поменяли лестницу и так далее. И он знал музыкантов, и хотел, чтобы так и было. Я полагаю, это было в основном от него, и я думаю, что всем это тоже нравилось. В течение двух лет я отсутствовал, а затем вернулся и провел большую выставку на всех трех этажах его галереи. На каждом этаже было по три комнаты. И это такая вещь, которая сразу звучит как вульгарное изложение всего, что у него было. Но это было не так. . . почти оригинально, потому что открытия в Бостоне не были такими. А шум и тепло такого рода представления были, знаете ли, довольно очаровательными вещами в то время, и я думаю, что они нравились и публике.
Но тогда я понял, что это было довольно серьезно, что это может быть довольно пугающе, и все просто шептались и ходили вокруг на цыпочках. Не очень хорошо для других аспектов шоу, кроме еды. Значит, у Мирского было какое-то празднество, связанное с его открытием. Во-первых, это было новое место, которое недавно обустроили, и мы, большинство из нас, так или иначе связанных с ним, работали на этом месте. То есть покрасили, содрали старый ковер, поменяли лестницу и так далее. И он знал музыкантов, и хотел, чтобы так и было. Я полагаю, это было в основном от него, и я думаю, что всем это тоже нравилось. В течение двух лет я отсутствовал, а затем вернулся и провел большую выставку на всех трех этажах его галереи. На каждом этаже было по три комнаты. И это такая вещь, которая сразу звучит как вульгарное изложение всего, что у него было. Но это было не так. . . почти оригинально, потому что открытия в Бостоне не были такими. А шум и тепло такого рода представления были, знаете ли, довольно очаровательными вещами в то время, и я думаю, что они нравились и публике.
RB: Если и была музыка и какая-то почти программа, то это не было то же самое, что открытие коктейльной вечеринки?
Точка доступа: О нет, нет. Например, у него был бы кто-нибудь, кто играл бы на гитаре и пел бы народные песни. Шеп Гинандес, у которого теперь есть школа — профессионально, я думаю, он психиатр, педагог — часто развлекался подобными вещами.
RB: Что за люди приходили на открытия? Каково было ваше впечатление о них?
AP: Отвечая сразу же, не задумываясь об этом слишком тщательно, я думаю о разнообразии, с социальной точки зрения, посещаемости таких вещей. Судьи, музыканты, многие студенты и все профессиональные уровни и категории между ними. Довольно удивительно. Это было, может быть, по крайней мере, так со стороны рассматривалось реальное смешение сфер общества, не всех сфер, но очень многих. У Мирского было много, в свое время, молодых людей, которые начинали становиться коллекционерами, или если не то, то хотя бы любознательность и известная близость, очень интересовались происходящим, что он представит, и проявляли особый интерес к некоторым художникам . Тогда я не думаю, что это было финансово очень успешным. Думаю, это были действительно трудные времена. В то же время весь этот гениальный интерес. Тогда цены на работы относительно неизвестных художников были очень низкими. Но вещи покупались и тогда, и иногда, например, в моем шоу в 1951, больше половины экспоната было продано в течение первой недели, или что-то в этом роде, что в то время считалось явлением. Он никоим образом не собирался поддерживать меня или даже компенсировать мне три или четыре — два или три — года работы, которая привела к шоу. Кроме того, Мирский тогда также привлекал интерес таких людей, как, например, Пол Сакс, которые приходили и покупали две или три вещи, а затем отдавали некоторые из них музею Фогга, а некоторые оставляли себе. И другие. Коллекционеры, которые будут владеть вещами Дюрера, Матисса и несколькими вещами бостонских художников благодаря тому, что у них будет такая галерея, как у Мирского, куда можно пойти и посмотреть.
Тогда я не думаю, что это было финансово очень успешным. Думаю, это были действительно трудные времена. В то же время весь этот гениальный интерес. Тогда цены на работы относительно неизвестных художников были очень низкими. Но вещи покупались и тогда, и иногда, например, в моем шоу в 1951, больше половины экспоната было продано в течение первой недели, или что-то в этом роде, что в то время считалось явлением. Он никоим образом не собирался поддерживать меня или даже компенсировать мне три или четыре — два или три — года работы, которая привела к шоу. Кроме того, Мирский тогда также привлекал интерес таких людей, как, например, Пол Сакс, которые приходили и покупали две или три вещи, а затем отдавали некоторые из них музею Фогга, а некоторые оставляли себе. И другие. Коллекционеры, которые будут владеть вещами Дюрера, Матисса и несколькими вещами бостонских художников благодаря тому, что у них будет такая галерея, как у Мирского, куда можно пойти и посмотреть.
RB: Но он был известен своей разборчивостью в том, что показывал, верно?
AP: Ну, когда я упомянул эти три категории художников, чьи работы они могли бы иметь, я имею в виду, что они не покупали Дюрера, если они у них были, через Мирского. Я не думаю, что это происходило; но они видели своего рода рисовальное мастерство, скажем так, почти фанатический интерес, который некоторые из нас испытывали к рисованию во многих традиционных смыслах и в некоторых экспериментальных смыслах. Тогда это было показано у Мирского, а также в галерее Маргарет Браун. Других галерей не помню. Я, конечно, знаю, что в Нью-Йорке существовали Vose Gallery и Doll and Richards, во-первых. Раньше я смотрел их шоу. Гильдия бостонских художников, которую я все эти годы регулярно посещал, чтобы посмотреть, что там происходит, или, вернее, что произошло.
Я не думаю, что это происходило; но они видели своего рода рисовальное мастерство, скажем так, почти фанатический интерес, который некоторые из нас испытывали к рисованию во многих традиционных смыслах и в некоторых экспериментальных смыслах. Тогда это было показано у Мирского, а также в галерее Маргарет Браун. Других галерей не помню. Я, конечно, знаю, что в Нью-Йорке существовали Vose Gallery и Doll and Richards, во-первых. Раньше я смотрел их шоу. Гильдия бостонских художников, которую я все эти годы регулярно посещал, чтобы посмотреть, что там происходит, или, вернее, что произошло.
RB: Правда ли, что такие группы, как Vose, Doll and Richards или the Boston Artists Guild, мало привлекали вас к работе с молодыми художниками?
AP: Думаю, мы пойдем. . . Я помню, как ходил на выставку в галерее Doll and Richards. Знаешь, я бы поехал туда один. Мне казалось, что если бы я услышал о выставке Мейеровица, который тогда был . . . или Корбино, или одного из этих художников Новой Англии, которых я уважал, по крайней мере, за большую продукцию, а иногда и за саму работу, в некоторых отношениях. Я бы пошел посмотреть на это; но я не видел многих своих друзей на таких выставках. Почти никогда. Я знаю, что кто-то назвал . . . человек по имени Мортон Сакс знал об этих экспонатах и, возможно, ходил их смотреть. Я не уверен. Я знаю его по сей день. Мы вместе работаем в Бостонском университете. Я никогда не обсуждал это с ним. Но я думаю, что в целом у нас тоже были свои предубеждения, и мы чувствовали, что, допустим, происходит то, что я, в частном порядке, пошел посмотреть эти работы, из любопытства. Я никогда не избавлялся от такого рода предубеждений, отличающих от витальных и академических. В то время я тоже облачался в предрассудки, как и все, но, по крайней мере, глазами видел их. Другая сторона бостонского искусства. Старшая сторона, пожалуй, и иногда очень значимая и важная для меня.
или Корбино, или одного из этих художников Новой Англии, которых я уважал, по крайней мере, за большую продукцию, а иногда и за саму работу, в некоторых отношениях. Я бы пошел посмотреть на это; но я не видел многих своих друзей на таких выставках. Почти никогда. Я знаю, что кто-то назвал . . . человек по имени Мортон Сакс знал об этих экспонатах и, возможно, ходил их смотреть. Я не уверен. Я знаю его по сей день. Мы вместе работаем в Бостонском университете. Я никогда не обсуждал это с ним. Но я думаю, что в целом у нас тоже были свои предубеждения, и мы чувствовали, что, допустим, происходит то, что я, в частном порядке, пошел посмотреть эти работы, из любопытства. Я никогда не избавлялся от такого рода предубеждений, отличающих от витальных и академических. В то время я тоже облачался в предрассудки, как и все, но, по крайней мере, глазами видел их. Другая сторона бостонского искусства. Старшая сторона, пожалуй, и иногда очень значимая и важная для меня.
RB: Другие галереи в Бостоне — другие дилеры не так охотно относились к молодым художникам, как Мирский, верно?
AP: В сороковые ничего другого не было. И если бы в Институте не было этой Новой Англии — этой выставки художников Новой Англии или отдельных художников в ней, и Мирский не прошел бы, я думаю, не только равнодушия, но и оппозиции, не было бы и место, или если бы было другое место, о котором я не знал, возможно, это произошло бы каким-то другим образом. Но так оно и случилось.
И если бы в Институте не было этой Новой Англии — этой выставки художников Новой Англии или отдельных художников в ней, и Мирский не прошел бы, я думаю, не только равнодушия, но и оппозиции, не было бы и место, или если бы было другое место, о котором я не знал, возможно, это произошло бы каким-то другим образом. Но так оно и случилось.
RB: Вы уже говорили что-то о Artists’ Equity, отделении в Новой Англии, и мне интересно, не могли бы вы сейчас описать, как вы узнали о нем и как вы стали им заниматься?
AP: Отделение в Новой Англии, или интерес к нему здесь, возникло одновременно с формированием Equity на национальном уровне. Тогда я думаю, что одним из первоначальных основателей организации был мой бывший учитель Карл Зербе. Я думаю, что слышал об этом — я точно не помню, как это появилось. Но в том же году 19Я полагаю, что в 47-м году, что, по-моему, было ее началом, в год ее начала, такие люди, как Куниёси, Левин и Шан, формировали эту организацию. В Новой Англии был человек по имени Леон Кролл — я думаю, что он все еще жив, я не уверен, — которого я знал по репродукциям его работ, его биографии и т. д. в течение многих лет. Так что однажды в течение года сюда приехал Куниёси, чтобы помочь в формировании отделения Artists’ Equity в Новой Англии. Тогда казалось, что то, что предлагалось для ее дела, ее деятельности, было очень важным, своевременным и нужным. Это должна была быть организация экономической помощи, справедливости, художника, и ничего больше. Она образовалась, кажется, в том же году. Я не помню первого президента в Бостоне или в стране. Я считаю, что первым президентом был либо Куниёси, либо Леон Кролл на национальном уровне. Наверное, Куниёси. Вскоре он стал почетным президентом. И он ездил по стране, пытаясь сформировать отделения. что бы просто помочь художникам, попавшим в беду после пожаров или в трудные периоды. Мы должны были избегать как выставочной, так и политической деятельности. Я думаю, что запрет на выставки продлился недолго, и Equity начала очень активно участвовать на местном уровне в различных отделениях, а также и здесь, в выставках по рекомендации.
В Новой Англии был человек по имени Леон Кролл — я думаю, что он все еще жив, я не уверен, — которого я знал по репродукциям его работ, его биографии и т. д. в течение многих лет. Так что однажды в течение года сюда приехал Куниёси, чтобы помочь в формировании отделения Artists’ Equity в Новой Англии. Тогда казалось, что то, что предлагалось для ее дела, ее деятельности, было очень важным, своевременным и нужным. Это должна была быть организация экономической помощи, справедливости, художника, и ничего больше. Она образовалась, кажется, в том же году. Я не помню первого президента в Бостоне или в стране. Я считаю, что первым президентом был либо Куниёси, либо Леон Кролл на национальном уровне. Наверное, Куниёси. Вскоре он стал почетным президентом. И он ездил по стране, пытаясь сформировать отделения. что бы просто помочь художникам, попавшим в беду после пожаров или в трудные периоды. Мы должны были избегать как выставочной, так и политической деятельности. Я думаю, что запрет на выставки продлился недолго, и Equity начала очень активно участвовать на местном уровне в различных отделениях, а также и здесь, в выставках по рекомендации.
RB: Вы имеете в виду продвижение или побуждение определенных галерей к показу?
AP: Equity начал что-то делать, по крайней мере, на местном уровне, чтобы поддержать фонд, чтобы собрать деньги для фонда. И я помню, собственно говоря, вечеринки у Мирских, на которых артисты пробовали свои другие способности комических актеров и артистов пантомимы. Я сыграл, должно быть, скучную пародию на джазовой скрипке, о которой ничего не знал, и так далее. Фонд был использован. Каждое отделение также предоставляло членам — или пыталось — юридическую помощь. Именно в те годы внимание некоторых законников к экономическому существованию художников было чем-то совершенно новым. По крайней мере, снова новый, на тот момент. Организация, национальная организация, действительно стала политически вовлеченной, главным образом потому, что подверглась нападкам в Конгрессе, я полагаю, или в Сенате со стороны сенатора или конгрессмена Дондеро. Не слышал, конечно, столько лет было — для радикалов среди идей лидерства. Некоторые местные художники очень серьезно относились к этим нападениям, потому что в те времена это было опасно, особенно для тех, кто преподавал в крупных государственных и государственных школах. Один особенно. И мы потеряли членов из-за нападения. Вразумительно ответить на атаку не удалось. Это просто продолжило бы полемику, а в некоторых случаях привлекло бы внимание к какому-то абсурдному обвинению. Я не знал масштабов обвинений или оснований для них, правда, на национальном уровне. Но я сомневаюсь, что в наше время то, что было найдено прямо сейчас, вообще считалось бы значительным в такой организации. Должно быть, это были политические объединения одного-двух членов, директоров.
Некоторые местные художники очень серьезно относились к этим нападениям, потому что в те времена это было опасно, особенно для тех, кто преподавал в крупных государственных и государственных школах. Один особенно. И мы потеряли членов из-за нападения. Вразумительно ответить на атаку не удалось. Это просто продолжило бы полемику, а в некоторых случаях привлекло бы внимание к какому-то абсурдному обвинению. Я не знал масштабов обвинений или оснований для них, правда, на национальном уровне. Но я сомневаюсь, что в наше время то, что было найдено прямо сейчас, вообще считалось бы значительным в такой организации. Должно быть, это были политические объединения одного-двух членов, директоров.
RB: Это верно и для некоторых членов Новой Англии?
AP: Ну, это не так. . . . Атака не дошла до членов Новой Англии. Это была национальная организация, штаб-квартира которой в то время находилась в Нью-Йорке. В конце концов, у Equity появилось собственное здание в Нью-Йорке, которого я никогда не видел, и оно превратилось в довольно сильную организацию с политикой на национальном уровне. Справедливость, и ничего из этого не вышло, на самом деле.
Справедливость, и ничего из этого не вышло, на самом деле.
РБ: Что он имел в виду?
AP: Ну, он думал, что все члены Equity, которые могли быть в те годы в Риме или Париже, должны собраться вместе. Только почему, я не уверен.
RB: Какие конкретные эффекты вы знаете о том, что это имело здесь для художников?
AP: Справедливость воздействовала на несправедливость по-разному (смех), на самом деле. Например, имело некоторое значение то, что на крупных национальных выставках художник иногда, за большие деньги для себя, упаковывал и отправлял свои работы, и они принимались, рассматривались, рассматривались, становились содержанием образовательных программ, содержанием учреждения. само по себе зависело бы от таких выставок, репродукции оплачивались, реклама, каталоги, путеводители, все, кроме какой-либо прибыли художнику, если только он не был среди одного или двух лауреатов. Мы хотели работать за какое-то платное участие в выставках. Я думаю, что это в конце концов имело место, кое-где, в стране в некотором роде, но из этого вышло что-то более конкретное в виде . . . своего рода плата художнику, чьи работы были воспроизведены. Например, можно было, в сороковые годы, живому художнику, который нуждался. . . жил на отдачу от своей работы, чтобы произведение воспроизводилось в сотнях тысяч экземпляров для использования в качестве рекламы музея, митрополита, например, во всех вагонах метро, и ничего за это не получало, или даже не думалось в связи с оплатой любого рода. Мы были против вступительных взносов, и в течение многих лет, в том числе через несколько лет после моих последних дней в качестве активного члена Equity, я чувствовал, что это правильно, что это должно было продолжаться, как мы делали все эти годы. Наш метод заключался в том, чтобы просто не выставляться, своего рода воздержание от участия. Не знаю, сильно ли это изменило практику. Я думаю, что какое-то время так и было, и что комитеты художников, которые почти автоматически считали, что художник будет платить столько за участие в шоу, действительно пересмотрели свое мнение, и в некоторых случаях это было изменено.
Мы хотели работать за какое-то платное участие в выставках. Я думаю, что это в конце концов имело место, кое-где, в стране в некотором роде, но из этого вышло что-то более конкретное в виде . . . своего рода плата художнику, чьи работы были воспроизведены. Например, можно было, в сороковые годы, живому художнику, который нуждался. . . жил на отдачу от своей работы, чтобы произведение воспроизводилось в сотнях тысяч экземпляров для использования в качестве рекламы музея, митрополита, например, во всех вагонах метро, и ничего за это не получало, или даже не думалось в связи с оплатой любого рода. Мы были против вступительных взносов, и в течение многих лет, в том числе через несколько лет после моих последних дней в качестве активного члена Equity, я чувствовал, что это правильно, что это должно было продолжаться, как мы делали все эти годы. Наш метод заключался в том, чтобы просто не выставляться, своего рода воздержание от участия. Не знаю, сильно ли это изменило практику. Я думаю, что какое-то время так и было, и что комитеты художников, которые почти автоматически считали, что художник будет платить столько за участие в шоу, действительно пересмотрели свое мнение, и в некоторых случаях это было изменено. Наверное, довольно широко. Конкретно больше, чем я знаю. Но все это вернулось недавно, и я не в курсе деятельности Equity сейчас, хотя я верю, что она все еще существует, совсем по-другому. Чтобы не было организованных усилий против такого рода вещей. Это принято как часть
Наверное, довольно широко. Конкретно больше, чем я знаю. Но все это вернулось недавно, и я не в курсе деятельности Equity сейчас, хотя я верю, что она все еще существует, совсем по-другому. Чтобы не было организованных усилий против такого рода вещей. Это принято как часть
RB: Для покрытия основных расходов?
Точка доступа: Да. Это и так понятно сейчас, а когда-то было важнее это неравенство простой наживы стольких на выставке. Конечно, это была не блестящая прибыль, а некоторая отдача; но художник сам заплатил за участие. Старое представление о том, что ему отплатят за рекламу, никогда не было практическим результатом для большинства художников, потому что многие из этих выставок были двух- или трехдневными стендами, иногда в любом случае в интересах других целей. В некотором смысле они стали артистами, которые платили за место для развлечения. Справедливость имела непосредственное отношение к консультированию художников по процедурам подоходного налога. Просто систематизация информации о вычетах — деловых вычетах — которая была сделана в виде хорошо написанного и тщательного совета.
Просто систематизация информации о вычетах — деловых вычетах — которая была сделана в виде хорошо написанного и тщательного совета.
RB: До этого большинство из вас даже не думало о своей работе как о бизнесе, или большинство из вас не были настолько наивными?
AP: Я знаю, что в моем собственном случае не было, потому что я не был в этом достаточно долго. Это было своего рода бесформенное представление о том, что когда-нибудь это может случиться. Так должно было быть, но всегда казалось удивительным, что это может быть что-то подобное.
RB: Было ли много людей доброй воли, которые не были художниками, которые были связаны с Акционерным капиталом, которые работали с ним?
AP: Всегда было сложное переопределение условий членства, по крайней мере, в нашей главе. Я знаю, что одно время они рассматривали — и это было принято на национальном уровне — своего рода ассоциированное членство просто для того, чтобы люди с интересом и временем выполняли часть работы. Так много организаций вынуждены это делать.
Так много организаций вынуждены это делать.
РБ: Что насчет бухгалтеров и юристов? Были ли это люди, к которым вы собирались обратиться за консультацией по вопросам авторского права и налогообложения?
ТД: Точно. У нас всегда были проблемы здесь, в отделении Новой Англии, с хорошей посещаемостью. Существовало преданное ядро членов, которые руководили Equity на местном уровне, общались с национальным штабом, очень активизировались во время иногда длительных периодов беспорядков между отделениями и национальным штабом, политикой, отставкой президентов и протестами. Все это происходило, естественно.
RB: Не могли бы вы назвать некоторых из художников и не художников, которые были наиболее вовлечены в эту деятельность в Новой Англии?
AP: У нас не было членства, которое включало бы нехудожников, но я думаю, что у нас было довольно гибкое измерение профессиональных стандартов. Я помню, конечно, Карла Зербе в качестве президента. Чарльз Деметрополис, бывший президент. Эрнест Хальберштадт, художник и фотограф, коммерческий художник, очень много работал для Equity. Джордж Аэронс, скульптор; иногда у нас были встречи у него дома в Глостере. Один человек, не знаю, помню ли его имя, оно было так давно знакомо — Кубини, Кармен Кубини, художник, приехавший из Кливленда. Он и его жена Дорис Холл. . . и он был одним из самых активных и вдохновленных членов Equity. То есть у него были идеи, и он их реализовывал, и много знал об организации такого рода.
Я помню, конечно, Карла Зербе в качестве президента. Чарльз Деметрополис, бывший президент. Эрнест Хальберштадт, художник и фотограф, коммерческий художник, очень много работал для Equity. Джордж Аэронс, скульптор; иногда у нас были встречи у него дома в Глостере. Один человек, не знаю, помню ли его имя, оно было так давно знакомо — Кубини, Кармен Кубини, художник, приехавший из Кливленда. Он и его жена Дорис Холл. . . и он был одним из самых активных и вдохновленных членов Equity. То есть у него были идеи, и он их реализовывал, и много знал об организации такого рода.
RB: Были ли местные коллекционеры или меценаты, хотя бы неофициально связанные с вашим отделением?
AP: Нет. Я не верю, что здесь когда-либо так делали. Я думаю, что эта деятельность происходила в значительной степени внутри группы того, что было сообществом художников. В свое время мы сделали то, что в конечном итоге, как мне кажется, стало Бостонским фестивалем искусств. То есть Equity втянулась — так сказать, вложила свои пальцы в выставку до такой степени, что у нас была выставка в Бостон Коммон. Это действительно была деятельность Equity. Позже его подхватила группа бизнесменов при сотрудничестве с художниками и работниками галереи, и год спустя он стал первым экспериментальным Бостонским фестивалем искусств, но до этого, в том же году, я помню, как работал над универсалом по ночам. , вывозя картины из того места, которое тогда называлось Копли Плаза, на выставочную площадку. У Equity был собственный стенд на первом Фестивале искусств — шесть лет тому — просто предоставление информации об организации. Вербовка, я полагаю. Между этим первым годом — этой выставкой — у нас была некоторая связь с известным бизнесменом, у которого была большая коллекция того, что, по его мнению, несомненно, было важной французской живописью. На рынке, в мире цен и имен и так далее, это было неважно. Это был просто большой объем картин, написанных во Франции, и ему нужно было место, чтобы показать это; и он, вероятно, был сторонником, наряду с другими бизнесменами, этого усилия Equity по организации выставки приглашенных или конкурирующих бостонских художников.
То есть Equity втянулась — так сказать, вложила свои пальцы в выставку до такой степени, что у нас была выставка в Бостон Коммон. Это действительно была деятельность Equity. Позже его подхватила группа бизнесменов при сотрудничестве с художниками и работниками галереи, и год спустя он стал первым экспериментальным Бостонским фестивалем искусств, но до этого, в том же году, я помню, как работал над универсалом по ночам. , вывозя картины из того места, которое тогда называлось Копли Плаза, на выставочную площадку. У Equity был собственный стенд на первом Фестивале искусств — шесть лет тому — просто предоставление информации об организации. Вербовка, я полагаю. Между этим первым годом — этой выставкой — у нас была некоторая связь с известным бизнесменом, у которого была большая коллекция того, что, по его мнению, несомненно, было важной французской живописью. На рынке, в мире цен и имен и так далее, это было неважно. Это был просто большой объем картин, написанных во Франции, и ему нужно было место, чтобы показать это; и он, вероятно, был сторонником, наряду с другими бизнесменами, этого усилия Equity по организации выставки приглашенных или конкурирующих бостонских художников. Я верю, что это заметили такие люди, как Джером Розенфилд — Розенфельд — другие, которые очень активно участвовали в формулировании Фестиваля, когда он только начинался. Ассоциация Бэк-Бэй — насколько я помню, ассоциация бизнесменов и женщин. Бизнес в этой области имел какое-то отношение к этому. Тогда не было никаких мыслей — может быть, и были мысли, но не было денег, полученных от городского правительства или любого другого общественного источника. Не в начале.
Я верю, что это заметили такие люди, как Джером Розенфилд — Розенфельд — другие, которые очень активно участвовали в формулировании Фестиваля, когда он только начинался. Ассоциация Бэк-Бэй — насколько я помню, ассоциация бизнесменов и женщин. Бизнес в этой области имел какое-то отношение к этому. Тогда не было никаких мыслей — может быть, и были мысли, но не было денег, полученных от городского правительства или любого другого общественного источника. Не в начале.
RB: Этот художественный клуб стал Фестивалем искусств, считалось ли это серьезным изменением в том, как искусство было принесено в Новую Англию — представлено в Новой Англии?
Точка доступа: Да. Я ничего подобного не знал, и я думаю, что это было правдой в течение долгого времени. Не знаю, в разные времена. Это было похоже на некий романтический замысел, который воплотился в жизнь. То есть иметь популярную выставку на открытом воздухе и доступную для всех. Возможная проблема в том, что иногда картина выглядит довольно уязвимой и обнаженной на открытом воздухе (смех). Это может быть очень субъективно, но тем не менее многим из нас это казалось хорошей, буйной, демократичной, освобождающей идеей. Это было очень душевно, шумиха среди артистов Бостона на тех фестивалях первых лет, конечно, и у публики. И многое было сделано. Такие люди, как Роберт Фрост и Маклиш, относились ко всему этому очень серьезно. Постановки в опере, наряду с этим хрупким палаточным городком выставок, росли с каждым годом.
Это может быть очень субъективно, но тем не менее многим из нас это казалось хорошей, буйной, демократичной, освобождающей идеей. Это было очень душевно, шумиха среди артистов Бостона на тех фестивалях первых лет, конечно, и у публики. И многое было сделано. Такие люди, как Роберт Фрост и Маклиш, относились ко всему этому очень серьезно. Постановки в опере, наряду с этим хрупким палаточным городком выставок, росли с каждым годом.
RB: Ты отнесся к этому серьезно, не так ли?
Точка доступа: Да. На несколько лет, конечно.
RB: Можно ли сказать, что вы и ваши коллеги-художники были эгалитаристами, которые хотели поставить себя на общий форум и разоблачить себя?
AP: Я не думаю, что это обсуждалось нами в таких терминах, но я предполагаю, что это всегда было целью. Да. Когда иногда такое случалось, на самом деле, что мы видели картины над овощными баками, например, большого супермаркета, ну, я имею в виду, это было немного шокирующим: и то, что картины выглядели так, как они там. . . . Но такие частные и почти невыразимо изобразительные — не словесные, не коммерческие, не съедобные (смех) — вещи там. Это была не совсем романтическая идея, правда, свободного взаимодействия искусства и практической действительности, но и разоблачение. То несомненное ощущение, что существует аристократия искусства, в которое приятно было верить, по крайней мере, мне. Вы знаете, мне всегда хотелось, чтобы все, что могло бы научить сформулировать, скажем, между одним цветом и другим, могло бы привести тайну взаимодействия цвета в некую славную, существующую гармонию контрастов или что-то в этом роде. Что это должно произойти и с автомобилем, и это произошло позже. Но я обнаружил, что не смотрю на автомобиль таким же образом, чувствуя, что должен. Это все еще продолжается как частный диалог во многих отношениях.
. . . Но такие частные и почти невыразимо изобразительные — не словесные, не коммерческие, не съедобные (смех) — вещи там. Это была не совсем романтическая идея, правда, свободного взаимодействия искусства и практической действительности, но и разоблачение. То несомненное ощущение, что существует аристократия искусства, в которое приятно было верить, по крайней мере, мне. Вы знаете, мне всегда хотелось, чтобы все, что могло бы научить сформулировать, скажем, между одним цветом и другим, могло бы привести тайну взаимодействия цвета в некую славную, существующую гармонию контрастов или что-то в этом роде. Что это должно произойти и с автомобилем, и это произошло позже. Но я обнаружил, что не смотрю на автомобиль таким же образом, чувствуя, что должен. Это все еще продолжается как частный диалог во многих отношениях.
RB: Значит, вы очень одобряете это?
Точка доступа: Да. Я знаю, что я сделал. Я думаю, что я пытался помочь им в течение многих лет, и я выставлял эти вещи на открытом воздухе. Помог незаметно разобрать над ними какое-то укрытие. Не нужно было принимать их каждую ночь, как это было изначально. И я с некоторым удовольствием увидел истинное намерение и заинтересованность большого числа людей, и, конечно, все остальные цирковые атрибуты, которые должны были этому сопутствовать.
Помог незаметно разобрать над ними какое-то укрытие. Не нужно было принимать их каждую ночь, как это было изначально. И я с некоторым удовольствием увидел истинное намерение и заинтересованность большого числа людей, и, конечно, все остальные цирковые атрибуты, которые должны были этому сопутствовать.
RB: Но вы могли бы терпеть это?
AP: Ну, я интеллектуально верил в них. Я все еще делаю.
RB: Считаете ли вы, что взаимодействие с живописью могло бы происходить, возможно, благодаря этим вещам — цирковым номерам — здесь они служат катализатором для определенных людей, которые в противном случае не могли бы быть привлечены к искусству?
Точка доступа: Да. Картина — я просто возвращаюсь к тому моменту, когда она выходит из контакта с кистью художника или с тем, что он по существу использует. Оно уже имеет — рискует в мире, как это делают его идеи, или он тоже, как социальное существо. А иногда так художник мог выразить цели, сбивающие с толку, что можно было так нейтрализовать. Форма развлечения, снобизм, удовольствие, которое не может быть выражено ему кем-то втихаря, который позже узнает об этом; но все это кажется вполне естественным. Он становится другим предметом со смыслом, и если это не его конкретное значение, то это некое богатство смысла (смех). Посмотрите на любую инженю, иногда это больно, иногда это… . . . Мне все это так интересно, потому что мне интересно неразумное отношение к искусству. Насколько мы ожидаем, что искусство пойдет прямо, без личного смысла к человеку? Идея общения. Как много мы делаем, создавая картину, чтобы попытаться гарантировать такой же надежный эффект в другом? И теперь это никогда не может происходить таким образом. Возможно, так и не должно быть, а если и произойдет, то мы никогда не узнаем. Так что я мог наблюдать группы людей, смотрящих на мою картину на Фестивале искусств или на связанных с ней выставках в витринах, и слушать комментарии и почти смотреть на нее так, как они могли ее видеть, но чего я никогда не узнаю, а затем быть далеким от моего контакта с ним как с создателем картины.
А иногда так художник мог выразить цели, сбивающие с толку, что можно было так нейтрализовать. Форма развлечения, снобизм, удовольствие, которое не может быть выражено ему кем-то втихаря, который позже узнает об этом; но все это кажется вполне естественным. Он становится другим предметом со смыслом, и если это не его конкретное значение, то это некое богатство смысла (смех). Посмотрите на любую инженю, иногда это больно, иногда это… . . . Мне все это так интересно, потому что мне интересно неразумное отношение к искусству. Насколько мы ожидаем, что искусство пойдет прямо, без личного смысла к человеку? Идея общения. Как много мы делаем, создавая картину, чтобы попытаться гарантировать такой же надежный эффект в другом? И теперь это никогда не может происходить таким образом. Возможно, так и не должно быть, а если и произойдет, то мы никогда не узнаем. Так что я мог наблюдать группы людей, смотрящих на мою картину на Фестивале искусств или на связанных с ней выставках в витринах, и слушать комментарии и почти смотреть на нее так, как они могли ее видеть, но чего я никогда не узнаю, а затем быть далеким от моего контакта с ним как с создателем картины. Все это я считаю не только приемлемым, но и необходимым, но не постоянно необходимым. А иногда, наедине с работой или с надеждой на новую работу, просто не можешь так думать. Или я не могу. Это как если бы это было сфабриковано для идеальной, никогда не осознаваемой аудитории. Но все в порядке. (Смех.) Это одно из профессиональных условий.
Все это я считаю не только приемлемым, но и необходимым, но не постоянно необходимым. А иногда, наедине с работой или с надеждой на новую работу, просто не можешь так думать. Или я не могу. Это как если бы это было сфабриковано для идеальной, никогда не осознаваемой аудитории. Но все в порядке. (Смех.) Это одно из профессиональных условий.
РБ: С тобой всегда так было? Когда вы были очень юным студентом, думали ли вы об окончательном общении — выпуске картины?
AP: Да, но не во время рисования. Я думаю, как я понимаю, одним из необходимых атрибутов акта создания искусства, то есть не того, что может быть решено или допущено, а должно быть, является то, что в процессе его создания, в моменты участие в его создании, все это собрано совсем по-другому, и в работе нет внешнего вида. Это только то, чем оно должно быть и каким оно должно остаться. Но довольно тщетно стремиться к такого рода объединению себя и объекта как к постоянному состоянию. Дальше произведение выходит как приключение Эль Греко сквозь века. Например, в мире бизнеса. Открыл, заново открыл, купил и забросил. Все это, конечно, очень сильно относится и к обучению. Взгляд и комментарий учителя к работе ученика, восприятие учеником того, что этот учитель может иметь в виду и что он может видеть, когда это устанавливается между двумя людьми, один из которых выступает в качестве авторитета, а другой — в качестве слушатель или ученик. Это тоже неразумно, и все же это продолжается и не зря (Смех). . . .
Дальше произведение выходит как приключение Эль Греко сквозь века. Например, в мире бизнеса. Открыл, заново открыл, купил и забросил. Все это, конечно, очень сильно относится и к обучению. Взгляд и комментарий учителя к работе ученика, восприятие учеником того, что этот учитель может иметь в виду и что он может видеть, когда это устанавливается между двумя людьми, один из которых выступает в качестве авторитета, а другой — в качестве слушатель или ученик. Это тоже неразумно, и все же это продолжается и не зря (Смех). . . .
РБ: И вы думаете — как вы сказали — необходимость, а иногда это не необходимость. Иногда вам необходимо, чтобы ваша работа была с другими людьми, которые будут реагировать на нее иначе, чем вы, вкладывать в нее другие вещи. . . . То есть преподавание также является необходимым продолжением вашей живописи?
Точка доступа: Да. Я думаю, что некоторые ученики понимают, что учитель приходит к ним из опыта того, чтобы быть со своей работой или не быть со своей работой. И что все это очень сильно влияет на так называемый объективный комментарий дня, года. И это необходимое воздействие, которому подвергается ученик, так же как и учитель, по отношению к этим различиям. Но, что удивительно, есть какой-то контакт, или начало контакта, и ученик может почувствовать, о, это далеко не то, что я переживаю в данный момент, или то, что я собираюсь делать в своей работе. . Но ее все же слушают, и тогда она становится некой отрицательной точкой сопротивления, либо становится положительной, либо поощрением. Это богатство взаимодействия, на самом деле, важно в ситуации.
И что все это очень сильно влияет на так называемый объективный комментарий дня, года. И это необходимое воздействие, которому подвергается ученик, так же как и учитель, по отношению к этим различиям. Но, что удивительно, есть какой-то контакт, или начало контакта, и ученик может почувствовать, о, это далеко не то, что я переживаю в данный момент, или то, что я собираюсь делать в своей работе. . Но ее все же слушают, и тогда она становится некой отрицательной точкой сопротивления, либо становится положительной, либо поощрением. Это богатство взаимодействия, на самом деле, важно в ситуации.
RB: Угрожает ли такое взаимодействие вашему творчеству? Или это, вообще говоря, нарост хороший, обогащающий?
AP: Я думаю, что, как и все моменты беспокойства, когда вы чувствуете, что на самом деле это накопилось и не может продолжаться, это основано на принятии часового времени. То есть, если я вижу, что за столь долгий счет того периода часов и дней и так далее я не могу работать из-за того, что занимаюсь преподавательской деятельностью, то я чувствую, что это посягательство, знаете ли, сильнее чем я. Так будет всегда, и я возмущен этим. В самом акте нахождения, учения, шутки, обсуждения, иногда объективно — стремясь к объективности — весь комплекс действий, чувств учения — в этом есть что-то очень похожее на настоящую работу художника, я полагать. Отдаваться ей полностью, если он это делает, мало чем отличается от самой картины — его работы над самой картиной — за исключением физического (смех), акта. Но по сути это так, и нельзя в такие моменты жалеть, что ты не в студии. Но вы, конечно, можете, после того, как урок закончился, и вы видите, что еще один день ушел и так много энергии. Так что это в некотором роде балансирует между внешним личным участием и простой экономической тратой времени и энергии.
Так будет всегда, и я возмущен этим. В самом акте нахождения, учения, шутки, обсуждения, иногда объективно — стремясь к объективности — весь комплекс действий, чувств учения — в этом есть что-то очень похожее на настоящую работу художника, я полагать. Отдаваться ей полностью, если он это делает, мало чем отличается от самой картины — его работы над самой картиной — за исключением физического (смех), акта. Но по сути это так, и нельзя в такие моменты жалеть, что ты не в студии. Но вы, конечно, можете, после того, как урок закончился, и вы видите, что еще один день ушел и так много энергии. Так что это в некотором роде балансирует между внешним личным участием и простой экономической тратой времени и энергии.
RB: Когда вы возвращаетесь в свою студию, считаете ли вы иногда время, потраченное на обучение и общение со студентами, или когда вы были на публике, чтобы посмотреть, как они реагируют, вы иногда думаете, что это вход? в вашу работу, когда вы вернетесь к ней? Или это действительно не дорого для вас?
AP: Я не знаю о внешнем вводе. Я знаю, разумно говоря, я знаю, что он должен существовать. Это гораздо больше ощущение, что я должен выпустить что-то уже там. Опыт того, что звучит. . . это кажется более подходящим, больше похоже на чувство, когда я подхожу к своей работе. Это не всегда было правдой, и когда я видел вещи, когда был моложе, я хотел сам делать вещи, похожие на эти вещи. Сходство. Я хотел посмотреть, смогу ли я. Поразить себя определенным образом, сделав ту ароматизированную область выразительного живописного мастерства, или как там это было, Это называлось эклектикой, или нахождением под чьим-то влиянием, и так далее. У этого были свои идеи.
Я знаю, разумно говоря, я знаю, что он должен существовать. Это гораздо больше ощущение, что я должен выпустить что-то уже там. Опыт того, что звучит. . . это кажется более подходящим, больше похоже на чувство, когда я подхожу к своей работе. Это не всегда было правдой, и когда я видел вещи, когда был моложе, я хотел сам делать вещи, похожие на эти вещи. Сходство. Я хотел посмотреть, смогу ли я. Поразить себя определенным образом, сделав ту ароматизированную область выразительного живописного мастерства, или как там это было, Это называлось эклектикой, или нахождением под чьим-то влиянием, и так далее. У этого были свои идеи.
RB: Присутствовал ли в вашей ранней работе какой-либо из этих влияющих факторов? Не могли бы вы описать свои ранние работы?
Точка доступа: Да. Я знаю, что это было в работе, которую я делал до и во время художественной школы. Возможно, была область, которую я видел на репродукции поверхности картины, которая имела для меня все это очарование. То, к чему я намеренно стремился бы в произведении, или пытался бы — или обнаруживал, что делаю, как если бы я открыл это. Я бы сделал глаз как у английского портретиста или у американца. Другими словами, чужая работа. Затем я посмотрел вверх и увидел природу, прежде всего, как такую живопись. Хотя я не знал, что это не мое. Вы знаете, что это был своего рода предполагаемый, своего рода заимствованный опыт, и он должен был уступить место чему-то другому. Я все еще чувствую это. Только теперь это больше — чего следует избегать, так это копировать самого себя. То есть делать то, что я сделал, могу сделать, вместо открытия чего-то нового. Это гораздо больше мотивация, толчок в работе. Не знаю, мне всегда трудно, когда искусство. . . кто повлиял на вас, и я чувствую, что должен придумать имя. И я много упоминаю Дега, и все же нет ничего похожего на какую-то особенную картину этого человека. Но я все равно передаю ему все приветствия, которые ему причитаются, и другим тоже.
То, к чему я намеренно стремился бы в произведении, или пытался бы — или обнаруживал, что делаю, как если бы я открыл это. Я бы сделал глаз как у английского портретиста или у американца. Другими словами, чужая работа. Затем я посмотрел вверх и увидел природу, прежде всего, как такую живопись. Хотя я не знал, что это не мое. Вы знаете, что это был своего рода предполагаемый, своего рода заимствованный опыт, и он должен был уступить место чему-то другому. Я все еще чувствую это. Только теперь это больше — чего следует избегать, так это копировать самого себя. То есть делать то, что я сделал, могу сделать, вместо открытия чего-то нового. Это гораздо больше мотивация, толчок в работе. Не знаю, мне всегда трудно, когда искусство. . . кто повлиял на вас, и я чувствую, что должен придумать имя. И я много упоминаю Дега, и все же нет ничего похожего на какую-то особенную картину этого человека. Но я все равно передаю ему все приветствия, которые ему причитаются, и другим тоже.
РБ: Но даже до того, как ты был . . . когда вы еще учились в художественной школе, вы упомянули, что Зербе держал вас в узде. Вы уже дошли до точки, где было гораздо больше Полонского и гораздо меньше ассимилирующих вещей, которые вы видели?
. . когда вы еще учились в художественной школе, вы упомянули, что Зербе держал вас в узде. Вы уже дошли до точки, где было гораздо больше Полонского и гораздо меньше ассимилирующих вещей, которые вы видели?
Точка доступа: Да. Я знал его работы и недавние работы, и работу почти в том виде, в каком она была сделана, потому что он показал ее нам, и если и было прямое влияние на мою работу, то обычно техническое влияние. То есть, я хотел… мне нравилось использовать наброски так, как это делал он, но всегда это была тема, которой он не занимался. Или, если бы я использовал некую зернистую поверхность для краски, которую он использовал бы экспериментально, потому что он сделал это, она была бы уравновешена чем-то другим, что он нашел бы абсолютно невозможным, как я полагаю, в своем рисовании поверхности другого типа. Это не было сознательной попыткой не быть прямым переписчиком, хотя временами я мог думать об этом. Я не беспокоился об этом. На самом деле вся тема влияний и так далее не была для меня сложной. Я бы доверял чувству родства, даже когда это было чем-то, что в значительной степени считалось непопулярным. Вы знаете, что, естественно, среди нас, как группы студентов-искусствоведов, были некоторые художники, которыми мы восхищались, и некоторые, которых мы чувствовали, что должны осуждать. Иногда я был на другой стороне того же снобизма, я защищал ту, которую осуждали, и притворялся, что больше всего интересуюсь второстепенными людьми, поверхностными художниками. . . .
Я бы доверял чувству родства, даже когда это было чем-то, что в значительной степени считалось непопулярным. Вы знаете, что, естественно, среди нас, как группы студентов-искусствоведов, были некоторые художники, которыми мы восхищались, и некоторые, которых мы чувствовали, что должны осуждать. Иногда я был на другой стороне того же снобизма, я защищал ту, которую осуждали, и притворялся, что больше всего интересуюсь второстепенными людьми, поверхностными художниками. . . .
RB: Было ли это просто упрямством с вашей стороны (смех)? Или вы думали, что это, возможно, хорошее интеллектуальное упражнение?
AP: В некотором роде это было также потому, что у меня было два подпольных стремления: быть величайшим художником, который когда-либо жил, а также быть второстепенным (смех) — быть заново открытым, мелким, второстепенным, незначительным, поверхностным художником. , что я на самом деле не имел в виду; но я был очарован этим.
RB: Ты имеешь в виду, что идея быть неизвестным, а затем внезапно обнаруженным, действительно хороша?
Точка доступа: Да. Конечно. Другими словами, качества популярного художника, который рассматривал определенную область на картине Фортуни, например, который был проклят своей популярностью, скажем, что эта область могла выглядеть как значительная складка, которая была… произведения де Кунинга. . . созрела работа в пятидесятые годы де Кунинга. Но это, конечно, только особый, творческий взгляд. Это как взять небольшой кусочек скульптуры и сделать фотографию, которая покажется вам монументальной, колоссальной работой, но при этом привлекательной. Это тоже реальность работы, но только в том виде, в каком она сфотографирована или, в моем случае, только когда на нее смотрят с особым намерением найти мастерский штрих в незначительном более крупном произведении.
Конечно. Другими словами, качества популярного художника, который рассматривал определенную область на картине Фортуни, например, который был проклят своей популярностью, скажем, что эта область могла выглядеть как значительная складка, которая была… произведения де Кунинга. . . созрела работа в пятидесятые годы де Кунинга. Но это, конечно, только особый, творческий взгляд. Это как взять небольшой кусочек скульптуры и сделать фотографию, которая покажется вам монументальной, колоссальной работой, но при этом привлекательной. Это тоже реальность работы, но только в том виде, в каком она сфотографирована или, в моем случае, только когда на нее смотрят с особым намерением найти мастерский штрих в незначительном более крупном произведении.
RB: Итак, у вас было желание стать великим художником. Это то, что подтолкнуло вас в молодости?
AP: Не знаю. . . в течение нескольких лет не выражался в таких терминах, но я не возражаю. . .
.
RB: Нет. Вы были оптимистичны, не так ли?
Точка доступа: Да. У меня такое было, но никогда не было постоянным. И у меня было столько же периодов абсолютного осознания не просто неудачи, а неудачи навсегда и, что это вообще такое. Теперь я понимаю, что это неизбежная вторая сторона этого высокомерия, или уверенности, или оптимизма, и их тесный союз добавил, чтобы затемнить работу. Как, знаете, всегда говорили все старые художники в этом банальном, повторяющемся совете: ну, рисуй, рисуй, рисуй; или, как сказал бы Рильке молодому писателю, который не мог понять, как вообще можно рассматривать мир как бесконечность единичных случаев, вы знаете, что вещи не были одинаковыми. Чем ты планируешь заняться? А вы говорите, ну, вы будете писать, писать, писать. Это не только терапевтическое. Для многих это может быть лучшим выходом (смех). Я не знаю, какая мораль определяет это, поэтому, когда вы вовлечены в эту работу, таким образом, а это не всегда так, эти вопросы не всегда возникают. Меня очень заинтересовало эссе французского философа Мерло-Понти о Сезанне, которое называется «Сомнение в Сезанне». Речь идет о некоторых письмах, которые показали, что Сезанн за три недели до смерти сомневался в том, что он мог делать и что это было. Однажды я попытался распространить эту идею на то, что — опять же, теоретически — что могло отменить настоящую работу, которая заставила его продолжать. Это не просто какой-то колоссальный и романтический замысел художника, фанатично преследующего свою странную, маленькую мечту. Я думаю, что это пронизывает всю деятельность и во многом связано с различием между тем, что делают руки, и разумом в этом возвращении к ремеслу, которое мы периодически наблюдаем в истории, и той чистоте и единству цели, которые, кажется, происходят в эти вневременные времена. часы, так сказать, работы, манипулирования некоторыми материалами в различных формах. Это как бы похвала живописи (смех).
Меня очень заинтересовало эссе французского философа Мерло-Понти о Сезанне, которое называется «Сомнение в Сезанне». Речь идет о некоторых письмах, которые показали, что Сезанн за три недели до смерти сомневался в том, что он мог делать и что это было. Однажды я попытался распространить эту идею на то, что — опять же, теоретически — что могло отменить настоящую работу, которая заставила его продолжать. Это не просто какой-то колоссальный и романтический замысел художника, фанатично преследующего свою странную, маленькую мечту. Я думаю, что это пронизывает всю деятельность и во многом связано с различием между тем, что делают руки, и разумом в этом возвращении к ремеслу, которое мы периодически наблюдаем в истории, и той чистоте и единству цели, которые, кажется, происходят в эти вневременные времена. часы, так сказать, работы, манипулирования некоторыми материалами в различных формах. Это как бы похвала живописи (смех).
RB: А в другое время вы интегрировали то, что делали. . . ?
. . ?
ТД: О, да. Я был смущен этим. Я до сих пор довольно нервно шучу по поводу деятельности художника в целом, но я нахожу, что мои шутки больше не нападают на нее и что теперь она кажется мне столь же надежной, какой она когда-либо будет для меня сейчас.
РБ: Как вы думаете, какие внешние раздражители иногда заставляют вас шутить по этому поводу?
AP: Опять это чувство. . . . Ну, я лучше расскажу о примере, который я часто привожу, потому что еще не до конца понял его значение для меня. Я был во Франции на стипендии, гулял по Нотр-Даму. Ночь была холодная, темнело, и мне захотелось вернуться в свою комнату. И я бежал. И я побежал за угол, и подошел вдруг к низкому окну, то есть к окну гостиницы на первом этаже, которое было настолько низким, что я мог видеть всю освещенную внутреннюю часть комнаты. Прямо передо мной, словно фильм на экране, а на самом деле молодой человек с беретом, шарфом, мольбертом, картиной, палитрой и кистями наносит на холст этот драматичный и искусный мазок. как раз в тот момент, и это было, для меня, отвратительное зрелище. Именно этим я и занимался. То, ради чего я приехал в Европу. Быть той карикатурой на артиста, как иногда говорили. Это заставило меня бежать домой. Я не могу, говоря вам сейчас, снова вызвать это чувство отвращения. Я этого не чувствую. Может быть, я потерял и чувство очарования этой сценой, и искусство быть не живущим в ее внешнем. . . Вы знаете, эта деятельность колоритного, богемного типа, которая меня тоже находила увлекательной, должна признать. Но было неловко. А также это подразумевало определенный привилегированный и аристократический взгляд, если не в финансовом или социальном, то, по крайней мере, в культурном отношении, что представление Кокто о художнике на двадцать лет опережает свое время. Когда я осуждал это всю свою жизнь, я также втайне надеялся, что это может быть правдой. Нет, в последнее время я знаю, что это не обязательно должно быть правдой, и что нет определения впереди или позади . . . . Я больше не считаю это авангардом.
как раз в тот момент, и это было, для меня, отвратительное зрелище. Именно этим я и занимался. То, ради чего я приехал в Европу. Быть той карикатурой на артиста, как иногда говорили. Это заставило меня бежать домой. Я не могу, говоря вам сейчас, снова вызвать это чувство отвращения. Я этого не чувствую. Может быть, я потерял и чувство очарования этой сценой, и искусство быть не живущим в ее внешнем. . . Вы знаете, эта деятельность колоритного, богемного типа, которая меня тоже находила увлекательной, должна признать. Но было неловко. А также это подразумевало определенный привилегированный и аристократический взгляд, если не в финансовом или социальном, то, по крайней мере, в культурном отношении, что представление Кокто о художнике на двадцать лет опережает свое время. Когда я осуждал это всю свою жизнь, я также втайне надеялся, что это может быть правдой. Нет, в последнее время я знаю, что это не обязательно должно быть правдой, и что нет определения впереди или позади . . . . Я больше не считаю это авангардом. Наверное, я не могу в этом возрасте.
Наверное, я не могу в этом возрасте.
RB: Где вы видите художника?
AP: Ну, в этом смысле я не вижу такой большой разницы между художественной деятельностью художника и деятельностью не-художника. Я знаю о внешних отличиях. Должен признаться, да. И, как художник, я тоже обычно держался на их определенном месте; не только тем, как они на самом деле заставили меня чувствовать, но и тем, как к ним относятся те, кто не рисует или не является художником. И есть такое взаимное признание художника как своего рода волшебника. То есть его боятся и им восхищаются, причем необоснованно. Меня все это интересует, потому что я думаю, что искусство — это освобождение от разума. Что он живет в мире, где разум также является целью. Там это интерпретируется, любимо, может быть полезно. Это слово. Я всегда хотел найти его полезным в некотором роде. Меня восхищает двойная жизнь некоторых художников, писателей, которые были и дипломатами, например, и поэтами.
RB: Полезно и практично? Вы имели в виду, когда сказали полезный, практичный?
AP: Да, но применение этой возможности часто не удается. Когда вы видите картину Гольбейна с изображением крытого моста в Люцерне, я думаю, что это так. Все эти годы он был хорошо отлакирован и сохранен. Смотрится красиво. Это выглядит правильно. В самый раз. Но это не значит, что на мосту в наше время обязательно должна быть картина. Могло ли быть так, что практические действия искусства — фабрикация искусства — что этот акт и его результаты формулируются в наше время по-иному? Конечно, очевидно, что это не так. Это может быть так, но очень по-разному, это может быть то, что порождает технологию. [КОНЕЦ СТОРОНЫ I] [СТОРОНА 2]
RB: Вы говорили о своей работе. Одна вещь, которую вы упомянули несколько минут назад, это то, о чем мы уже говорили, система влияния. То есть, если они приходят, они просто становятся частью тебя? Вы упомянули авангардизм. Как вы относитесь к этому за свою тридцатилетнюю карьеру?
Как вы относитесь к этому за свою тридцатилетнюю карьеру?
AP: Что ж, попробую посмотреть со стороны. Будучи студентом в начале, я думаю, что я был бы включен в небольшую горстку молодых художников, которые считались бунтарями, авангардистами. Оно колебалось от одного к другому, и я, полагаю, впал в своего рода консерватизм на год или два, будучи студентом. Заметно, в работе; что-то, что я должен был сделать. Кое-кто из моих друзей, возможно даже учителя, сочли это предательством. Видите ли, тогда, в конце сороковых, в Бостоне вполне можно было быть полностью фигуративным художником. То есть работать изобразительно с фигурами с натуры, из воображения и из-за определенных несоответствий тому, что тогда считалось традиционной пропорцией красоты или композиции. Тогда эта работа считалась дико радикальной; но это была работа, в общем, нечто общее для многих из нас, которое в какой-то мере подкреплялось исследованием того, что мы считали техникой мастеров. То есть манипулировали самой краской и искали ее как выразительный материал. Это то, что мы считали новым в нашей работе. Мы знали, что это было возвращение чего-то; как и все новое. Так произошло то, что вообще называлось искажением пропорции рисунка в творчестве многих из нас, а также новое применение более богатого вида использования самой краски, основы для картин. Это продолжалось и привело к некоторому беспокойству с использованием традиционных техник, которые, я думаю, породили комбинации, которые здесь давно не использовались, темпера и масло, непрямые методы живописи, даже эта очень древняя энкаустика. метод, по которому работал наш учитель Карл Цербе в настоящее время и постоянно в то время. Затем, по крайней мере, некоторые из нас исследовали новое применение пластиков для живописи. Сейчас я преподаю в школе, где технический курс — это в значительной степени объяснение, анализ и изготовление масляной краски в то время, когда масляная живопись, как правило, среди молодых художников почти не существует, но она не считается новой и современное стремление, а своего рода, почти ностальгический способ сохранить что-то живым.
Это то, что мы считали новым в нашей работе. Мы знали, что это было возвращение чего-то; как и все новое. Так произошло то, что вообще называлось искажением пропорции рисунка в творчестве многих из нас, а также новое применение более богатого вида использования самой краски, основы для картин. Это продолжалось и привело к некоторому беспокойству с использованием традиционных техник, которые, я думаю, породили комбинации, которые здесь давно не использовались, темпера и масло, непрямые методы живописи, даже эта очень древняя энкаустика. метод, по которому работал наш учитель Карл Цербе в настоящее время и постоянно в то время. Затем, по крайней мере, некоторые из нас исследовали новое применение пластиков для живописи. Сейчас я преподаю в школе, где технический курс — это в значительной степени объяснение, анализ и изготовление масляной краски в то время, когда масляная живопись, как правило, среди молодых художников почти не существует, но она не считается новой и современное стремление, а своего рода, почти ностальгический способ сохранить что-то живым.
RB: Вы или другие?
AP: Нет, не мной. Нет, я просто обобщаю мнения. Я не думаю, что материал имеет такое большое значение. Иногда кажется. Художники теперь работают с материалами, которые я, как молодой художник, считал материалами художников 1920-х годов. Габо и так далее. Они немного лучше. Здесь задействованы разные пластики, разные способы использования освещения. Но для меня новые материалы одинаковы. Та же надежда, та же погоня за новыми актуальными смолами и волокнами и чем бы то ни было в наше время, чего не было, в отличие от Бернини, было бы в свое время использовано для поэтически-выразительных целей, путем сочетания металла, дерева, мрамора… . . каждый сам по себе, в той комбинации, которая делала его больше, чем один. . .
RB: Чтобы, когда вы были молодым художником, вы не слишком высокомерно относились к тому, что используете эти новые материалы, потому что понимали, что, скажем, Бернини или кто-нибудь в двадцатые годы экспериментировал с подобными вещами.
AP: На самом деле мы использовали самые старые материалы в технике масляной живописи и на самом деле надеялись. . . . Я не был так сильно вовлечен в это, как некоторые из моих друзей, надеясь снова открыть секрет старых мастеров, как это часто бывает. Это происходило, возможно, неизвестно большинству из нас, в музее Фогга в те годы исследований с такими людьми, как Полк и Форбс. Мы слышали об этом, но делали это снова из удовольствия и любопытства и, в некотором роде, из-за потребности в более прочной поверхности. Были художники, особенно такие, как Сутин, которые не только раскрашивали тушу животного, как это делал Рембрандт — я не имею в виду, что это было похоже на Рембрандта — конечно, по-своему; но также использовал бы эту — его — адаптацию техники импасто некоторых участков Рембрандта, например, тоже похожую — толстую. Мы видели, например, ранние работы таких людей, как Левин и Блум, с существенным, маслянистым, почти скульптурным скоплением пигмента, что казалось нам захватывающей новой возможностью. Это, конечно, одна из старейших возможностей техники масляной живописи и другой темперы, потому что, я полагаю, я познакомился с ней в школе на нашем техническом курсе и нашел ее красивой, с некоторым сходством с ней, и некоторые люди позже говорили, потому что Бен Шан, которого я знал тогда, в сороковых годах, использовал яичную темперу; но я должен сказать, что это был знакомый медиум за много лет до того, как я познакомился с Шаном, и я использовал его, продолжал и делал свои собственные вариации, используя его с маслом. Многие из нас хотели качеств масляной живописи: толщины, богатства, косвенных качеств, но более быстро сохнущего материала, и я думаю, это была определенная склонность, которая в то время проявлялась повсюду и привела к новому интересу к живописи. новые материалы, такие как пластиковые темперы.
Это, конечно, одна из старейших возможностей техники масляной живописи и другой темперы, потому что, я полагаю, я познакомился с ней в школе на нашем техническом курсе и нашел ее красивой, с некоторым сходством с ней, и некоторые люди позже говорили, потому что Бен Шан, которого я знал тогда, в сороковых годах, использовал яичную темперу; но я должен сказать, что это был знакомый медиум за много лет до того, как я познакомился с Шаном, и я использовал его, продолжал и делал свои собственные вариации, используя его с маслом. Многие из нас хотели качеств масляной живописи: толщины, богатства, косвенных качеств, но более быстро сохнущего материала, и я думаю, это была определенная склонность, которая в то время проявлялась повсюду и привела к новому интересу к живописи. новые материалы, такие как пластиковые темперы.
RB: Что ж, яичная темпера очень кропотлива в применении, не так ли? Так что сохнет.
Точка доступа: Да. Когда это будет сделано так, как, как мы думали, работали сиенские и умбрийские художники, острием кисти, непрерывно штрихуя маленькие штрихи друг над другом несколькими простыми цветами, высушивая каждый слой и так далее, ожидая накопления, чтобы сделать цвет , это несомненно. Мы видели новое применение этого в Йельской школе, возможно, в начале сороковых годов. Я не знаю, кто были инструкторы. Был один художник — он до сих пор живет в Бостоне — Натаниэль Джейкобсон, который был студентом Йельского университета и… . . был весьма известен как лауреат национальных выставок за эти картины яичной темперой, вернее, рендеры. Я нашел это интересным, но я хотел использовать яйцо в сочетании с маслом как нечто, что сделало бы установку быстрой сохнущей, легче манипулировать, чем масляная живопись, которая не должна оставаться жидкой в течение стольких дней, и все же имеет это качество пасты, толщина. В то время, примерно в конце сороковых годов, появился интерес к . . . . Кажется, я упоминал об этом раньше — человек, который каким-то образом был связан с Лувром, написал книгу «Мариджи» о том, что, по его мнению, было химическим секретом старых мастеров. Это был метод изготовления среды из масла со свинцом — глета. И когда это было сделано — я никогда этого не делал, большинство моих друзей — это был сиропообразный медиум, который сразу же придавал картине древний потускневший вид, а также ускорял высыхание, так что вы могли глазуровать, возможно, в течение нескольких часов.
Мы видели новое применение этого в Йельской школе, возможно, в начале сороковых годов. Я не знаю, кто были инструкторы. Был один художник — он до сих пор живет в Бостоне — Натаниэль Джейкобсон, который был студентом Йельского университета и… . . был весьма известен как лауреат национальных выставок за эти картины яичной темперой, вернее, рендеры. Я нашел это интересным, но я хотел использовать яйцо в сочетании с маслом как нечто, что сделало бы установку быстрой сохнущей, легче манипулировать, чем масляная живопись, которая не должна оставаться жидкой в течение стольких дней, и все же имеет это качество пасты, толщина. В то время, примерно в конце сороковых годов, появился интерес к . . . . Кажется, я упоминал об этом раньше — человек, который каким-то образом был связан с Лувром, написал книгу «Мариджи» о том, что, по его мнению, было химическим секретом старых мастеров. Это был метод изготовления среды из масла со свинцом — глета. И когда это было сделано — я никогда этого не делал, большинство моих друзей — это был сиропообразный медиум, который сразу же придавал картине древний потускневший вид, а также ускорял высыхание, так что вы могли глазуровать, возможно, в течение нескольких часов. или в день, и у этого были некоторые атрибуты, которые позже некоторые художники обнаружили в темперах, темпере и гифелорине, который был растворимым скипидаром, на самом деле люцитом. То есть это не было похоже на темперы. Это было очень похоже на старую и красиво покрытую патиной картину из музеев и прошлых веков. Нам было интересно, чтобы картины выглядели именно так. Это была своего рода система подмалевка, которую Карл Зербе имел и преподавал, которая вызвала большой отклик у активных студентов-художников того времени. И это было сделать картину, которая была бы действительно монохромным этюдом в коричневых и белых тонах, а затем перейти к цвету. Это, в некотором роде, должно было стать своего рода мостом между рисунком и живописью, что это был рисунок, сделанный красками. И это было основано как на желании контролировать дизайн с самого начала, так и на том, что мы чувствовали, должны были быть методы различных художников, таких как Рубенс и, другими словами, итальянские художники, Боттичелли.
или в день, и у этого были некоторые атрибуты, которые позже некоторые художники обнаружили в темперах, темпере и гифелорине, который был растворимым скипидаром, на самом деле люцитом. То есть это не было похоже на темперы. Это было очень похоже на старую и красиво покрытую патиной картину из музеев и прошлых веков. Нам было интересно, чтобы картины выглядели именно так. Это была своего рода система подмалевка, которую Карл Зербе имел и преподавал, которая вызвала большой отклик у активных студентов-художников того времени. И это было сделать картину, которая была бы действительно монохромным этюдом в коричневых и белых тонах, а затем перейти к цвету. Это, в некотором роде, должно было стать своего рода мостом между рисунком и живописью, что это был рисунок, сделанный красками. И это было основано как на желании контролировать дизайн с самого начала, так и на том, что мы чувствовали, должны были быть методы различных художников, таких как Рубенс и, другими словами, итальянские художники, Боттичелли. Тщательно построенный подмалевок. Эта идея работы с представлениями о бессмертии. То есть постоянство в химических веществах, в структуре, в методах. Все это очень привлекало нас в то время. Это было как раз противоположно тому поверхностному, или забавному, или мимолетному, или очаровательному, о чем мы подозревали.
Тщательно построенный подмалевок. Эта идея работы с представлениями о бессмертии. То есть постоянство в химических веществах, в структуре, в методах. Все это очень привлекало нас в то время. Это было как раз противоположно тому поверхностному, или забавному, или мимолетному, или очаровательному, о чем мы подозревали.
RB: Вы явно очень восхищались некоторыми из старых мастеров?
AP: Так было всегда. Конечно.
RB: Ты действительно хотел как-то взяться за них или в какой-то мере снова заняться ими?
Точка доступа: Да. Я не думаю, что это было. . . на самом деле это происходило в форме продуманного решения в каждом из нас. Я не знаю об этом. В каком-то смысле это не является чем-то необычным даже сейчас. Что ж, теперь мы можем найти молодого художника, который обращается только к художникам последних десяти лет, а затем вдруг к одному из художников 500-летней давности в другой культуре, возможно, но ничего между ними. В целом это не так, но мы в некотором смысле заново открыли для себя европейскую традицию. Он был в значительной степени ограничен европейским, и мы были очарованы тем, что, как мы думали, должны были быть процедуры художников в построении своей работы, в подготовке к ней. Это было очень вдохновлено Карлом Цербе, который читал специальный курс техники и основывал его на истории техники. Эволюция масляной живописи как средства, конечно. Затем он занялся другим использованием цвета в энкаустике и темпере. Я вел курс яичной темперной живописи в Школе-музее. Я никогда не учился на этом курсе. Будучи студентом, я получил специальное разрешение на портреты, которыми частично зарабатывал на жизнь в студенческие годы; но я делала их яичной темперой. Я хорошо помню, что древний метод был очень современным стилистическим оформлением портретов.
В целом это не так, но мы в некотором смысле заново открыли для себя европейскую традицию. Он был в значительной степени ограничен европейским, и мы были очарованы тем, что, как мы думали, должны были быть процедуры художников в построении своей работы, в подготовке к ней. Это было очень вдохновлено Карлом Цербе, который читал специальный курс техники и основывал его на истории техники. Эволюция масляной живописи как средства, конечно. Затем он занялся другим использованием цвета в энкаустике и темпере. Я вел курс яичной темперной живописи в Школе-музее. Я никогда не учился на этом курсе. Будучи студентом, я получил специальное разрешение на портреты, которыми частично зарабатывал на жизнь в студенческие годы; но я делала их яичной темперой. Я хорошо помню, что древний метод был очень современным стилистическим оформлением портретов.
Полонский | Герои Вики | Фэндом
| Содержание этой статьи помечено как «Для взрослых» Страница Polonsky содержит материалы для взрослых, которые могут включать грубые выражения, сексуальные отсылки и/или графические изображения насилия, которые могут кого-то раздражать.  Зрелые статьи рекомендуются для тех, кто 18 лет и старше. Зрелые статьи рекомендуются для тех, кто 18 лет и старше. Если вам 18 лет или больше или вы знакомы с графическими материалами, вы можете свободно просматривать эту страницу. В противном случае вам следует закрыть эту страницу и просмотреть другую страницу. |
Благодетель
Полное имя
Полонский (имя неизвестно)
Псевдоним
Малыш
Происхождение
Call of Duty: World at War
Род занятий
Член 1-й дивизии морской пехоты
Офицер морской пехоты США
Силы/навыки
Военная подготовка
Стрельба
Хобби
Борьба
Цели
Конец Второй мировой войны (удалось)
Семья
Безымянная мать
Друзья/союзники
Робак
К. Миллер
Миллер
Том Салливан
Майор Гордон
Враги
Императорская японская армия
Герой
Солдат
| » | Эти чертовы животные, они убили его! Вы все отправитесь в ад, слышите меня? Ты попадешь прямо в ад! | „ |
| ~ Полонский после смерти Робака (определитель). |
Рядовой Полонский — тритагонист Call of Duty: World at War и второстепенный персонаж в Call of Duty: World at War: Final Fronts , а также на протяжении всей американской тихоокеанской кампании.
Его озвучил Аарон Стэнфорд, который также играл Поджигателя в фильмах Люди Икс .
Содержание
- 1 Биография
- 1.1 Ранняя жизнь
- 1.2 Тихоокеанская кампания
- 2 мелочи
Биография
Ранние годы
Полонский родился в 1926 или 1927, возможно, в Нью-Йорке из-за того, что он упомянул, что его мать находится в Квинсе. В разгар Второй мировой войны Полонский поступил на службу в Корпус морской пехоты США, а позже стал членом 1-й дивизии морской пехоты.
В разгар Второй мировой войны Полонский поступил на службу в Корпус морской пехоты США, а позже стал членом 1-й дивизии морской пехоты.
Тихоокеанская кампания
В сентябре 1944 года Полонски был частью подразделения морской пехоты под командованием сержанта Тома Салливана, который вел своих людей, чтобы прорвать японскую оборону на Пелелиу. Полонски, Миллеру, Робаку и Салливану удалось прорвать оборону японцев и уничтожить моторные группы, но Салливан был убит зарядным устройством Банзай. После его смерти Робак был повышен до командира отряда и возглавил отряд, взявший аэродром Пелелиу. Отряд натыкается на сбитый F4U Corsair, и Робак поручает одному из своих людей спасти пилота. Солдат обнаружил, что это была мина-ловушка, установленная японцами, которые выходят из леса, чтобы напасть на них.
Полонскому противна их ловушка, он продолжает сражаться с японцами и ему удается захватить аэродром. Затем на морских пехотинцев нападает японский конвой, и им удается продержаться, пока американские истребители не окажут поддержку с воздуха. Затем Полонский вместе с отрядом выжигает японские окопы и уничтожает японские моторные бригады. Затем рядовой продолжает захватывать остальную часть Пелелиу, а затем отправляется на остров Окинаву. После штурма Вана-Ридж Полонски жалуется майору Гордону на нехватку припасов у морских пехотинцев, в то время как Робак и Миллер помогают погрузить раненых морских пехотинцев в грузовик.
Затем Полонский вместе с отрядом выжигает японские окопы и уничтожает японские моторные бригады. Затем рядовой продолжает захватывать остальную часть Пелелиу, а затем отправляется на остров Окинаву. После штурма Вана-Ридж Полонски жалуется майору Гордону на нехватку припасов у морских пехотинцев, в то время как Робак и Миллер помогают погрузить раненых морских пехотинцев в грузовик.
Полонский и отряд получают боеприпасы, но попадают в засаду японцев, когда собирают их. Вместе с отрядом он участвует в штурме замка Сюри и сражается с многочисленными японскими войсками. Ближе к концу группа сталкивается с японскими солдатами, сдающимися отряду, что оказывается уловкой. Если игрок спасет Робака, Полонски будет убит японскими солдатами гранатами. Робак будет оплакивать его смерть и поможет Миллеру удержать свои позиции при поддержке с воздуха. Затем сержант идет за жетонами Полонского и отдает их Миллеру, пока слышен его монолог.
Если игрок спасет Полонского, Робак будет убит, а Полонский будет оплакивать его смерть, проклиная себя. Полонский будет произведен в капралы и поклянется отомстить японцам. Затем Полонский помогает Миллеру удерживать свои позиции, а также получает поддержку с воздуха США. В конце битвы Полонский дает жетоны Миллера Робака, так как можно услышать монолог Робака.
Полонский будет произведен в капралы и поклянется отомстить японцам. Затем Полонский помогает Миллеру удерживать свои позиции, а также получает поддержку с воздуха США. В конце битвы Полонский дает жетоны Миллера Робака, так как можно услышать монолог Робака.
Общая информация
- Его фирменное оружие — M1 Garand.
- Судя по фамилии, он мог быть поляком.
- Модель его персонажа такая же, как у Танка Демпси.
- В Call of Duty: Final Fronts он имеет звание капрала.
- Похоже, что Полонский из Нью-Йорка, так как в одной из его цитат упоминается, что его мать находится в Квинсе.
Антоний Полонский | Виртуальный штетл
Алия антисемитизм Армия Андерса Армия Берлинга Красная армия ассимиляция Повседневная жизнь в укрытии депортация Доносы Эмиграция Поддельные документы Гестапо гетто Вторая Мировая Война Израиль иудаизм иврит язык язык идиш Убежища 19 марта68 Мотивы спасателей Опасные ситуации концентрационные лагеря Лагеря принудительного труда Лагеря смерти Выжившие в Холокосте Занятие Оппозиция в коммунистической Польше Коммунистическая Польша Палестина Вспоминая истории спасения 19 октября56 Погромы Польская полиция, контролируемая немцами Помощь предложена евреям, скрывающимся в другом месте Помощь оказана за деньги Истории послевоенной жизни спасателей Истории послевоенной жизни спасенных Возвращение евреев после войны восстание в гетто Довоенные отношения с евреями 1989 трансформация Взятие евреев в подполье Спасение евреев Жизнь под оккупацией Послевоенные отношения со Спасенными Отношения с соседями Репрессии Репрессии против евреев Репрессии за помощь евреям Поиски 19 августа80 Праведники народов мира сталинизм Военное положение Подача заявки на звание Праведника народов мира польско-еврейские отношения Добрососедские отношения Страх Образование Шантажисты Способы маскировки еврейская идентичность еврейская традиция Участие в сопротивлении Присвоение звания Праведник Скрытие в монастырях Сокрытие евреев поминовение Шестидневная война Современное время смещение Убийство евреев Холокост Восстановленные территории еврейские праздники Повседневная жизнь Культурная жизнь Жизнь до войны Вооруженное еврейское подполье Евреи в СССР
Aliyah
Anti-Semitism
Anders’ Army
Berling’s Army
Red Army
Assimilation
Everyday life in hiding
Deportation
Denunciations
Emigration
False documents
Gestapo
ghettos
Вторая мировая война
Израиль
Иудаизм
Иврит
Язык идиш
Укрытия
19 марта68
Motivations of rescuers
Dangerous situations
concentration camps
Forced labour camps
Death camps
Holocaust survivors
Occupation
Opposition in communist Poland
Communist Poland
Palestine
Remembering the stories of rescue
Октябрь 1956 г.
Погромы
Польская полиция, контролируемая немцами
Предложение помощи евреям, скрывающимся в других местах
Денежная помощь
Послевоенные истории жизни спасателей
Послевоенные истории жизни спасенных
Возвращение евреев после войны
Восстание в гетто
Довоенные отношения с евреями
Трансформация
Прием евреев в подполье
Спасение евреев
Жизнь в условиях оккупации
Послевоенные отношения со спасенными
Отношения с соседями
Репрессии
репрессии против евреев
репрессии для помощи евреям
Поиск
август 1980
Праведные среди стран
Сталинизм
Боевой закон
. отношения
Страх
Образование
Шантажисты
Способы маскировки
Еврейская идентичность
Еврейская традиция
Участие в сопротивлении
, предоставив правый титул
, скрываясь в монастырях
Укрытие евреев
Попоминание
Шестидневная война
Современные времена
Убийство еврея
.

 На вступительных экзаменах познакомился со студентом-словесником Аполлоном Григорьевым, который снимал комнатку на Малой Полянке. Там собирались студенты, увлеченные философией, это было одно из мест, где возникала московская литературная «богема». Центром тусовки были 3 крупнейших поэта: Григорьев, Афанасий Фет и Полонский. Последний мучился ощущением своей ущемленности в образованности и положении (не мог обучаться на филологическом факультете из-за «нехватки памяти» на изучение иностранных языков и был беден настолько, что приходилось подрабатывать репетиторством и довольствоваться дешевыми обедами и даже калачами).
На вступительных экзаменах познакомился со студентом-словесником Аполлоном Григорьевым, который снимал комнатку на Малой Полянке. Там собирались студенты, увлеченные философией, это было одно из мест, где возникала московская литературная «богема». Центром тусовки были 3 крупнейших поэта: Григорьев, Афанасий Фет и Полонский. Последний мучился ощущением своей ущемленности в образованности и положении (не мог обучаться на филологическом факультете из-за «нехватки памяти» на изучение иностранных языков и был беден настолько, что приходилось подрабатывать репетиторством и довольствоваться дешевыми обедами и даже калачами).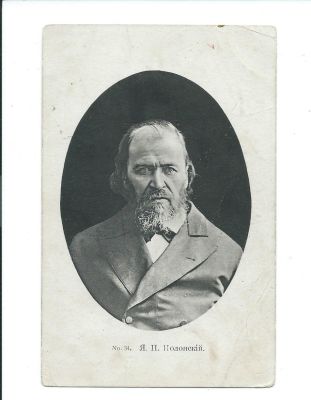 У Полонского это «Пришли и стали тени ночи…». Тогда же началась дружба с Тургеневым, продолжавшаяся до смерти Ивана Сергеевича.
У Полонского это «Пришли и стали тени ночи…». Тогда же началась дружба с Тургеневым, продолжавшаяся до смерти Ивана Сергеевича.
 Но гонораров по-прежнему не хватало даже на скромную жизнь. Поэтому давал частные уроки, в том числе детям столичного губернатора. С губернаторской семьей путешествовал по Европе, учился живописи у французских мастеров, знакомился с писателями. В 1858-м году отказался преподавать детям губернатора, устав ладить с их вздорной матерью.
Но гонораров по-прежнему не хватало даже на скромную жизнь. Поэтому давал частные уроки, в том числе детям столичного губернатора. С губернаторской семьей путешествовал по Европе, учился живописи у французских мастеров, знакомился с писателями. В 1858-м году отказался преподавать детям губернатора, устав ладить с их вздорной матерью. Очеловечивая своих героев, он воспевает людские добродетели и обличает пороки.
Очеловечивая своих героев, он воспевает людские добродетели и обличает пороки.